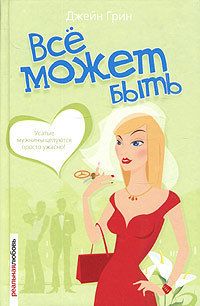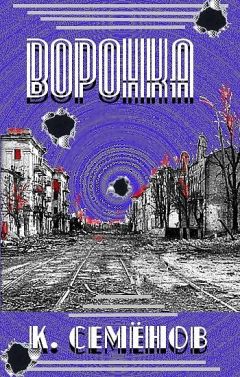Анна Зегерс - Транзит
– Я знаю тебя достаточно хорошо. Какую бы штуку ты ни выкинул, как бы ни разошелся, каких бы глупостей ни натворил, я все равно убежден, что никогда, ни при каких обстоятельствах ты меня не подведешь.
Почему он мне раньше этого не сказал, до того как нас всех перемололи события последних месяцев? Я спросил его есть ли у него документы.
– У меня есть отпускное свидетельство из лагеря. – Как ты сумел его раздобыть? Ведь мы все вместе перелезли ночью через стену.
– Один из нас не растерялся и в последнюю минуту, когда все в лагере уже пошло вверх тормашками, сунул в карман пачку пустых бланков отпускных свидетельств. Потом я заполнил бланк на свое имя. На основании этого документа я получил разрешение на жительство в той деревне, где меня спрятали. Теперь у меня есть документ.
В кармане у Гейнца было еще несколько пустых бланков. Он дал мне один из них и объяснил, что не надо писать там, где стоит печать. Надо постараться так заполнить бланк, чтобы казалось, что печать поставлена на нем в последнюю очередь.
Я попросил Гейнца еще раз встретиться со мной.
– Быть может, – сказал я, – я смогу быть тебе полезным. Я хорошо знаю район Старой гавани, места, где можно спрятаться. Кроме того, мне хотелось бы с тобой поговорить. В голове у меня вертятся разные мысли, с которыми я не могу справиться.
Гейнц внимательно посмотрел на меня, и вдруг я понял, что дела мои обстоят из рук вон плохо. Правда, меня это не очень-то беспокоило, но не признаться себе в этом я уже не мог. Молодость моя больше не повторится, а она идет прахом. Я растратил ее, мотаясь по концентрационным лагерям, скитаясь по дорогам, ночуя в номерах грошовых гостиниц, обнимая нелюбимых девушек. А впереди маячила ферма на берегу моря, где меня будут терпеть из милости. И я сказал вслух:
– Жизнь моя идет прахом…
Гейнц назначил мне свидание ровно через неделю, в тот же день, в тот же час, в том же кафе. Я по-детски радовался предстоящей встрече. Считал дни. И все же в конце концов я не пришел на свидание. Так уж вышло…
Глава четвертая
I
Как-то поздно вечером ко мне вдруг пришел Жорж Бинне. Он был единственным человеком в Марселе, который знал, где я живу. Но до этого он никогда не бывал у Меня. Так далеко наша дружба в то время еще не зашла. Жорж сказал, что их мальчик внезапно заболел. Что-то вроде астмы. Приступы бывали и прежде, но не такие сильные. Нужно срочно найти врача.
– Правда, поблизости живет один врач, – объяснил мне Жорж. – Он обосновался в корсиканском квартале лет десять назад, когда его выгнали с флота. Но он пьяница и неопрятен. А Клодин уверяет, что среди немцев-беженцев есть хорошие врачи. Она просит тебя помочь нам найти врача.
С первого дня знакомства с Жоржем Бинне я привязался к мальчишке. Ради него я часами простаивал в каких-то дурацких комитетах, чтобы на деньги, которые там выдавали беженцам, ожидавшим отъезда, купить ему то, о чем он мечтал. Болтая с Бинне, я всегда поворачивался к окну, у которого мальчик готовил уроки. А если я что-нибудь рассказывал, то бессознательно выбирал понятные ему слова. Иногда я брал его с собой – мы катались на лодке или гуляли в горах. Сперва он был молчалив. Когда он порывисто вскидывал голову, когда глаза его вдруг загорались, я думал, что в нем просто играет кровь, как в молодом жеребенке. Но все равно мне это нравилось. Я жил в свихнувшемся мире, но меня иногда успокаивал безмятежный, еще невинный взгляд ребенка; кроткое и гордое движение, которым Клодин предлагала мне рис; радостная улыбка мальчика при моем появлении. Потом я обнаружил, что ничто не ускользало от его внимания. И что он знал о нас всех куда больше, чем мы о нем. И эта внезапная болезнь, серьезность которой я тогда, безусловно, преувеличил, показалась мне покушением на его жизнь, попыткой каких-то неведомых мне сил – а может быть; просто грубой, тупой, подлой действительности – избавиться от него, навсегда закрыть его загорающиеся, пытливые глаза. Мне еще больше, чем Жоржу, не терпелось найти врача. Я навел справки в своем отеле. Меня послали в отель «Омаж» на улице Релэ – узенькой улочке возле Кур Бельзенс; там, в номере 83, живет в прошлом знаменитый врач, бывший директор дортмундской больницы. Из-за слова «в прошлом» я ожидал увидеть старика. Я совсем забыл, что для беженцев время оборвалось в день их отъезда с родины. Когда я постучал в дверь номера 83, я услышал молодой встревоженный женский голос. Женщина кого-то успокаивала, должно быть, Врача. Видно, они испугались этого позднего стука – уж не полиция ли? Затем дверь открылась, но никто не вышел ко мне. Я увидел только голубую шелковую кайму на узком запястье. Я почувствовал легкое волнение – что-то вроде ревности, которая мучает меня иногда без всякого основания, – быть может, оттого, что этот незнакомый мне врач был таким известным и талантливым, что люди нуждались в нем, что он, возможно, был вовсе не старым, а женщина – кто знает – была нежной и красивой…
– Мне нужен врач, – сказал я.
И женский голос повторил, как мне показалось, не без радости:
– Нужен врач.
И тотчас же в дверях появился мужчина. Таким я и представлял себе врача. У него были волосы с сильной проседью и молодое лицо. И все же, несмотря на его молодость, на нем лежал отпечаток профессии. Тысячу или даже две тысячи лет назад врач, наверно, выглядел точно так же – тот же кивок головы, те же внимательные, пристальные и вместе с тем бесстрастные глаза, которые несметное число раз останавливались на людях, измученных физическими страданиями. В тот вечер мы едва обратили внимание друг на друга. Он коротко спросил меня о больном. Но мои сведения были для него недостаточно точными. Я так волновался за мальчика, что не мог ничего толком объяснить.
Мы молча пересекли пустынную, почти незастроенную Кур Бельзенс. На ее северной стороне все еще стояли фургоны беженцев. На веревке висело белье.
В окошке одного из фургонов горел свет. Оттуда доносился смех.
– Люди давно забыли, – сказал мой спутник, – что у фургонов есть колеса. Этот уголок на Кур Бельзенс кажется им теперь родиной.
– Пока их не прогонит отсюда полицейский.
– На другой конец площади – не дальше. А потом второй полицейский снова пошлет их назад. Им хоть не придется, как нам, пересекать океан.
– Вы, доктор, тоже хотите пересечь океан?
– Я вынужден это сделать.
– Почему?
– Да потому, что хочу лечить больных. Мне обещали дать отделение в больнице в Каксакасе. Если бы эта больница находилась на Кур Бельзенс, мне не пришлось бы пускаться в такое путешествие.
– А где это, Каксакас?
– В Мексике, – сказал он с удивлением.
– Так вы тоже собираетесь в Мексику? – воскликнул я с еще большим удивлением.
– Мне случилось как-то, много лет назад, вылечить сына одного крупного мексиканского чиновника.
– Трудно туда добраться?
– В том-то и дело, что чертовски трудно. Прямых пароходов нет. Вся сложность заключается в транзитных визах. Видимо, придется ехать американским пароходом. А значит, надо пересечь испанские и португальские воды. Теперь, говорят, иногда удается попасть в Мексику и другим путем: доехать на французском пароходе до Мартиники, а оттуда добираться через Кубу.
«Этот человек – врач до мозга костей, – подумал я. – Он нужен людям. Ему и в самом деле надо уехать. Не то что этому маэстро с черепом мертвеца, которому во что бы то ни стало хочется еще раз помахать дирижерской парочкой».
На пустыре, расположенном между родильным домом и Арабским кафе, спали двое нищих, тех самых, что лежат там всегда и днем. Руки, которые они день-деньской тянули за милостыней, служили им теперь подушкой. Нищие безмятежно спали на своей родной земле, им не было дела до того, что происходит вокруг. Стыд был им так же неведом, как и прогнившим деревьям, которые превращаются в труху. Бороды нищих кишели вшами, кожа покрылась струпьями. Так же как и у деревьев, у них не могло возникнуть желания покинуть свою родину.
Мы пересекли улицу Республики, совсем пустынную в этот час. Когда мы проходили по лабиринту переулков в районе Старой гавани, врач внимательно глядел по сторонам, запоминая, видимо, дорогу, чтобы не заблудиться, когда он будет один возвращаться домой. Ночь была тихая и холодная.
Я стукнул молотком в дверь на улице Шевалье Ру. Врач бросил острый взгляд на Клодин – мать ребенка, которого он должен вылечить. Затем он быстро прошел через крохотную кухню, прямо к кровати мальчика. Он сделал нам знак, чтобы мы вышли из комнаты. Жорж уже отправился на свою мельницу. Клодин, присев за кухонный стол, подперла рукой голову. Нежно-розовая полоска ладони подчеркивала линию ее подбородка. До сих пор я любовался Клодин, словно она была цветком или раковиной, только теперь, когда у нас появилась общая тревога, Клодин превратилась для меня в обыкновенную женщину, которая день-деньской работает, заботится о муже и ребенке, бьется из последних сил.