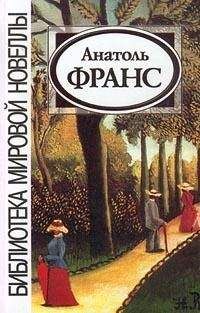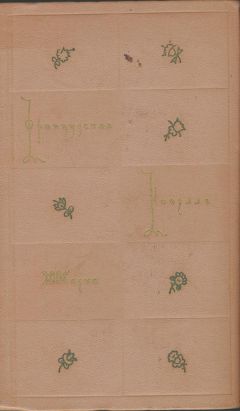Анатоль Франс - 5. Театральная история. Кренкебиль, Пютуа, Рике и много других полезных рассказов. Пьесы. На белом камне
За одну минуту он успел шепнуть несколько слов каждому и каждой из присутствующих.
— Прадель, слыханное ли это дело, чтобы молодой человек бросил роль, превосходную роль, и как дурак покончил с собой? Пустить себе пулю в лоб накануне премьеры! По его вине придется теперь делать купюры и подгонять сцены одну к другой, это задержит нас на целую неделю. Вот идиот! Он играл из рук вон плохо. Но надо отдать ему справедливость: прыгал он, скотина, отлично. Ромильи, голубчик, займемся подгонкой сегодня же в два часа. Надо, чтобы у Реньяра была копия роли и чтобы он умел лазать по крышам. Только бы он тоже не подвел нас, как Шевалье! Что, если и он застрелится! Да вы не смейтесь. Над некоторыми ролями тяготеет рок. Вот хотя бы в моем «Марино Фальеро» гондольер Сандро сломал себе на генеральной репетиции руку. Мне дают другого Сандро. На первом же представлении он вывихнул ногу. Мне дают третьего, он заболевает тифом… Нантейль, голубушка, когда ты будешь во Французской Комедии, я дам тебе замечательную роль. Но клянусь всеми святыми, что ваш театр от меня больше ни одной пьесы не получит.
И почти тут же он показал своим собратьям по перу эпитафию Расина[43] под дверцей правого клироса и вспомнил историю этого камня, ибо был из тех парижан, что интересуются стариной родного города; он рассказал, что поэта, следуя его желанию, похоронили в Пор-Рояль, в ногах могилы г-на Амона, и что, когда это аббатство было снесено и могилы разрушены, тело дворянина Жана Расина, королевского секретаря и камер-юнкера, было без всяких почестей перенесено в церковь св. Стефана. И дальше он рассказал, что надгробие с рыцарским шлемом, серебряным лебедем на гербе и надписью, сочиненной Буало и переведенной на латинский Додаром, было вделано вместо ступени на хорах церквушки в Маньи-Лессаре, где оно и было найдено в 1808 году.
— Вот оно! — прибавил драматург. — Оно было разбито на шесть кусков, а имя Расина местами стерлось под башмаками крестьян. Куски приладили друг к другу и восстановили недостающие буквы.
На такие темы он распространялся со свойственными ему живостью и красноречием, извлекая из своей поразительной памяти множество любопытных фактов и забавных анекдотов, оживляя историю и внося страстность в археологию. Он то бурно восхищался, то приходил в негодование и все с одинаковым пылом, не смущаясь благолепием места и торжественностью богослужения.
— Хотел бы я знать, какие безграмотные болваны вделали этот камень сюда в стену: «Hic jacet nobilis vir Johannes Racine»[44]. Это неправда! По их милости эпитафия честного Буало лжет. Тело Расина не тут. Оно было погребено в третьей часовне налево от входа. Что за идиоты!
И, сразу успокоившись, он указал на надгробие Паскаля.
— Оно попало сюда из музея на улице Малых Августинцев. Честь и слава Ленуару[45], ведь он во время революции собрал, сберег…
Он экспромтом прочитал общедоступную лекцию о надгробиях, еще более блестящую, чем первая, изобразил жизнь Паскаля как интересную и ужасную драму и исчез. В церкви он в общей сложности провел не больше десяти минут.
Над склоненными головами, одолеваемыми суетными заботами и мирскими желаниями, как буря гремело «Dies irae»[46]:
Mors stupebit et natura,
Quum resurget creatura
Judicanti responsura[47].
— Послушайте, Дютиль: ну как могла Нантейль, ведь она и очаровательная и умненькая, связаться черт знает с каким жалким актеришкой, с Шевалье?
— Ваше незнание женского сердца поразительно!
— Эршель гораздо больше бы шло быть брюнеткой.
Qui Mariam absolvisti
Et latronem exaudisti
Mihi quoque spem dedisti[48].
— Мне пора завтракать.
— Вы никого не знаете, у кого был бы ход к министру?
— Дюрвилю крышка. Он дышит, как рыба, вытащенная из воды.
— Сделайте мне одолжение, напечатайте несколько слов о Мари Фалампэн. Она была обаятельна в «Китайских болванчиках», поверьте мне.
Inter oves locum prasta
Et ab hadis me sequestra,
Statuens in parte destra[49].
— Так это он из-за Нантейль застрелился? Из-за такой потаскушки, которая и подметки его не стоит!
Священник налил в чашу вино с водой и возгласил:
— Deus qui humans substantia dignitatem mirabiliter condidisti…[50]
— Неужели, доктор, он покончил с собой потому, что Нантейль дала ему отставку?
— Он покончил с собой потому, что она полюбила другого, — ответил Трюбле. — Навязчивые эротические представления часто служат толчком к безумию и меланхолии.
— Вы не знаете актеров, доктор Сократ, — сказал Прадель. — Он покончил с собой потому, что хотел произвести впечатление, и не почему иному.
— Не одни актеры чувствуют непреодолимую потребность во что бы то ни стало привлечь к себе внимание, — сказал Константен Марк. — В прошлом году у нас в Сен-Бартоломе тринадцатилетний мальчуган сунул в колесо работавшей молотилки руку, и ее раздробило до плеча. Доктор, который ампутировал ему руку, спросил во время перевязки, чего ради он так себя изувечил. Мальчик признался, что хотел обратить на себя внимание.
Меж тем Нантейль, сжав губы, не спускала сухих глаз с черного покрова на гробу и с нетерпением ждала, когда покойник будет сполна ублаготворен святой водой, свечами и латинскими молитвами и сойдет в могилу, смирившись и не злобствуя. Этой ночью он опять являлся ей, и она приписывала его приход тому, что церковь еще не упокоила его душу. Потом, подумав, что когда-нибудь она тоже умрет и будет, как Шевалье, лежать в гробу под черным покрывалом, она вздрогнула от страха и зажмурилась. Чувство жизни было так сильно в ней, что смерть она представляла себе, как ужасную жизнь. Ей стало страшно, что она умрет, и она принялась молиться, чтоб бог послал ей долгую жизнь. Стоя на коленях, опустив голову, в ореоле легких волос, светлым пленительным пеплом упавших на склоненное чело, эта кающаяся грешница читала по молитвеннику слова, которых не понимала, но они успокаивали ее.
«Господи Иисусе Христе, царю славы, спаси души всех преставившихся верующих от мук адовых и геенны огненной. Спаси их от пасти львиной. Да не поглотит их бездна адова и тьма вечная; да приведет их архистратиг Михаил к святому свету, обещанному Аврааму и потомству его…»
В момент пресуществления святых даров молящиеся, проникшись смутным чувством, что таинство достигло своего апогея, прекратили посторонние разговоры и постарались придать своему лицу сосредоточенное выражение. В тишине, когда замолк орган, прозвенел колокольчик в руках мальчика-причетника, и все наклонили головы. Затем, после чтения последнего евангелия, когда священник, окончив службу под пение «Libera»[51], приблизился, сопутствуемый причтом, к катафалку, по толпе пробежал вздох облегчения, и все, слегка теснясь, потянулись проститься с покойником. Женщины, которых неподвижное стояние на коленях наводило на благочестивые, грустные и покаянные помыслы, сейчас же, как только кругом задвигались, вернулись к повседневным заботам. Актрисы, сталкиваясь друг с другом и с актерами, опять уже говорили о своих профессиональных делах.
— Слышала, — сказала Эллен Миди своей товарке Фалампэн, — Нантейль переходит во Французскую Комедию.
— Не может быть!
— Контракт подписан.
— Как она этого добилась?..
— Во всяком случае, не игрой на сцене, — ответила Эллен и начала рассказывать чрезвычайно скандальную историю.
— Тише, — остановила ее Фалампэн, — она идет сзади тебя.
— Вижу! Надо же иметь наглость, чтобы прийти сюда, правда?
Мари-Клэр шепнула на ухо Дюрвилю неожиданную новость:
— Говорят, что он застрелился. Ну, так это неправда! Вовсе он не застрелился. Иначе разве стали бы отпевать его в церкви?
— А что же тогда? — спросил Дюрвиль.
— Де Линьи застал его с Нантейль и убил.
— Какой вздор!
— Уверяю тебя, я из достоверных источников знаю.
Разговоры принимали все более оживленный и интимный характер.
— И вы здесь, старый греховодник!
— Сборы падают.
— Стелла добилась рекомендации от семнадцати депутатов, из которых девять входят в бюджетную комиссию.
— А ведь я Эршель говорила: «Вертопрах Боке не для вас, вам нужен солидный человек».
Когда факельщики, подняв гроб, вынесли его из храма, ласковые лучи зимнего солнца коснулись лиц женщин и роз на венках. По обеим сторонам паперти стоял народ. Учащаяся молодежь узнавала среди публики известных актеров. Швеи из соседних мастерских, стоявшие по двое, обнявшись, обсуждали туалеты актрис. Двое бродяг, привыкшие жить под открытым небом, то ласковым, то суровым, прислонились к стенке паперти, чтобы дать отдых натруженным ногам, и обводили толпу медленным угрюмым взглядом, а рядом с ними ученик коллежа упивался созерцанием огненно-рыжих кудрей Фажет, стянутых пламенным узлом на затылке. Остановившись в дверях на верхней ступени, она разговаривала с Константеном Марком и несколькими журналистами.