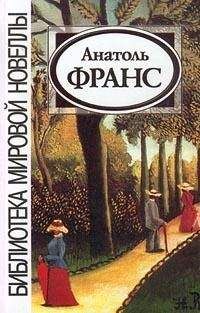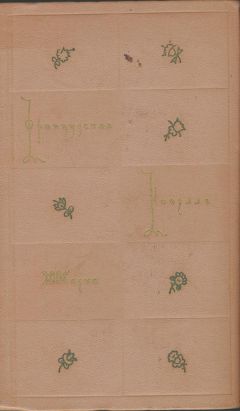Анатоль Франс - 5. Театральная история. Кренкебиль, Пютуа, Рике и много других полезных рассказов. Пьесы. На белом камне
Лето в тот год для меня было самым трудным за всю мою жизнь. В Нижнем Египте свирепствовала эпидемия холеры. Я носился по раскаленному городу с утра до вечера. Лето в Каире вообще мучительно для европейца. Но такой жары я еще не знавал. И вот однажды мне сказали, что Селим, привлеченный к ответственности туземным каирским судом, приговорен к смерти. Он убил девятилетнюю феллахскую девочку, чтобы завладеть ее серьгами, и бросил труп в водоем. Серьги, забрызганные кровью, были найдены под большим камнем в долине Царей. Это были примитивные украшения, которые нубийцы-кочевники выковывают молотком из шиллингов и монет в сорок су. Мне сказали, что Селим будет повешен, так как мать девочки не соглашается на выкуп за кровь. Действительно, хедиву не дано права миловать собственной властью, и согласно мусульманскому закону убийца может купить себе жизнь только в том случае, если родные убитого согласятся получить в возмещение некоторую сумму денег. Я был слишком занят и не вник в это дело. Впрочем, я легко мог себе представить, что Селим, хитрый, но склонный к необдуманным поступкам, ласковый и жестокий, поиграл с девочкой, сорвал с нее серьги, а ее убил и спрятал тело. Вскоре я позабыл о нем. Из старого города эпидемия перекинулась и в европейские кварталы. Я посещал тридцать — сорок больных в день и каждому делал внутривенное вливание. Меня мучила печень, изводило малокровие, одолевала усталость. Чтобы сохранить силы, мне необходимо было отдохнуть среди дня. После завтрака я растягивался во внутреннем дворе моего дома и погружался на час в африканскую тень, густую и свежую, как вода. Раз, когда я лежал так у себя во дворе на диване и как раз зажигал папиросу, я увидел Селима. Он был, как всегда, в синем бурнусе. Приподняв своей красивой бронзовой рукой занавес на двери, Селим подошел ко мне. Он не говорил, но он улыбался, обнажая в невинной и свирепой улыбке сверкающие зубы между алыми губами. Глаза, осененные иссиня-черными ресницами, загорелись алчностью при виде моих часов, лежавших на столе.
Я подумал, что он убежал из тюрьмы. И очень удивился не потому, что арестантов хорошо стерегут в восточных тюрьмах, где мужчин, женщин, лошадей и собак загоняют в плохо запирающиеся дворы под надзор одного-единственного солдата, вооруженного палкой. Но мусульмане не склонны испытывать судьбу. Селим опустился на колени со свойственной ему умильной грацией и потянулся губами к моей руке, чтобы по древнему обычаю поцеловать ее. Я не спал, и у меня есть тому доказательство. У меня также есть доказательство, что видение длилось недолго: когда Селим исчез, я заметил, что на моей зажженной папиросе еще нет пепла.
— Он уже умер, когда вы его видели? — спросила Нантейль.
— Нет, — ответил доктор. — Несколько дней спустя я узнал, что Селим все еще плел в тюрьме корзиночки или часами перебирал стеклянные четки и, улыбаясь, выпрашивал пиастр у посетителей-европейцев, которых поражала ласкающая мягкость его глаз. Мусульманское правосудие не торопится. Селима повесили через полгода. Ни на него, ни на других это не произвело большого впечатления. Я был тогда в Европе.
— А потом он больше не приходил?
— Нет.
Нантейль посмотрела на доктора с разочарованием.
— Я думала, что он приходил после смерти. Но раз он был в тюрьме, ясно, что вы не могли его видеть и что это было ваше воображение.
Поняв мысль Фелиси, доктор поспешил ответить:
— Нантейль, дружочек мой, верьте мне: призраки мертвых так же нереальны, как и призраки живых.
Не обращая внимания на его слова, она спросила, неужели он видел привидение потому, что страдал печенью? Он ответил, что плохое состояние пищеварительных органов, общая усталость и предрасположение к приливам крови безусловно сделали свое дело.
— Я думаю, — прибавил он, — тут была и более непосредственная причина. Я лежал на диване, и голова у меня была ниже туловища. Я приподнял голову, чтоб зажечь папироску, и сейчас же опять опустил ее. Такое положение поразительно способствует галлюцинациям. Иногда достаточно лечь и запрокинуть голову, и вы тут же начнете видеть образы и слышать звуки, порожденные вашей фантазией. Вот поэтому-то я и советую вам, дружочек, спать высоко, на двух больших подушках.
Она рассмеялась.
— Совсем как мама!.. Так же величественно!
Затем она перескочила на другую мысль.
— Послушайте, Сократ, а почему вам привиделся именно этот воришка, а не кто другой? В свое время вы наняли его осла и потом больше о нем не думали, И вдруг он вам привиделся. Ведь это же нелепо.
— Вы спрашиваете, почему именно он, а не кто другой? Я затрудняюсь ответить. Часто наши видения связаны с самыми сокровенными помыслами; но иногда они не имеют с ними ничего общего и совершенно для нас неожиданны.
Он снова стал убеждать ее не поддаваться боязни призраков.
— Мертвые не возвращаются. Если вам явится какой-нибудь покойник, будьте уверены, что это — порождение вашей фантазии.
Она спросила:
— Можете вы мне поручиться, что после смерти нет ничего?
— Деточка, после смерти нет ничего, что могло бы вас напугать.
Она встала, взяла сумочку и роль, протянула доктору руку.
— Вы ни во что не верите, старенький мой Сократ.
Он задержал ее на минутку в передней, посоветовал не переутомляться, вести спокойный образ жизни, развлечься, отдохнуть.
— Вы думаете, при нашей профессии это легко!.. Завтра у меня репетиция в фойе, репетиция на сцене, примерка платья; сегодня вечером я занята в спектакле. И вот уже больше года, что я так живу.
X
Под высокими сводами, в пустоту которых надлежит возноситься молитвам, волновалось пестрое людское стадо.
У катафалка, окруженного свечами и утопающего в цветах, собрались актеры, все до единого: Дюрвиль, старик Мори, Делаж, Викар, Дестре, Леон Клим, Вальрош, Аман, Реньяр, Прадель и Ромильи, и режиссер Маршеже; актрисы, все до единой: г-жа Раво, г-жа Дульс, Эллен Миди, Дюверне, Эртель, Фалампэн, Стелла Мари-Клэр, Луиза Даль, Фажет, Нантейль. Женщины стояли на коленях, все в черном, печальные, как элегии. Некоторые уткнулись в молитвенник. Другие плакали. Во всяком случае, к гробу товарища все женщины пришли побледневшие от утренней сырости, с темными кругами под глазами. Журналисты, актеры, драматурги, весь тот люд, что кормится театром, их семьи и толпа любопытных заполняли храм.
Певчие жалобно тянули «Kyrie eleison»[36]; кюре поцеловал алтарь, повернулся к народу и возгласил:
— Dominus vobiscum[37].
Ромильи окинул взглядом публику.
— У Шевалье недурной сбор.
— Посмотри-ка на Луизу Даль, — сказала Фажет. — Она надела черный резиновый ватерпруф, пусть все видят, что и она в трауре.
Доктор Трюбле, стоя несколько поодаль, по своему обычаю наблюдал нравы и делился вполголоса своими впечатлениями с Праделем и Константеном Марком…
— Заметьте, — говорил он, — на алтаре и вокруг гроба вместо свечей зажгли лампадки на длинных палках и вместо чистого воска ублажают господа деревянным маслом. Благочестивые люди, живущие при храме, спокон веков обжуливают бога. Наблюдение это не мое; кажется, его сделал Ренан[38].
Священнослужитель, стоя справа от алтаря, негромко читал:
— Nolumus autem vos ignorare fratres de dormientibus ut non contristemini, sicut et ceteri qui spem, non habent[39].
— Кому теперь дадут роль Флорентена? — спросил Дюрвиль у Ромильи.
— Реньяру, — хуже Шевалье он ее не сыграет.
Прадель дернул доктора Трюбле за рукав.
— Доктор Сократ, скажите, пожалуйста, вы как ученый, как физиолог видите очень большие трудности для признания бессмертия души?
Он задал свой вопрос тоном делового, практического человека, лично заинтересованного в получении точных сведений.
— Вы, мой милый, конечно, знаете, что говорила по этому поводу птица Сирано де Бержерака[40], — ответил Трюбле. — Однажды Сирано подслушал разговор двух птиц, сидевших на дереве. Одна сказала: «Душа птиц бессмертна». — «В этом нет сомнения, — согласилась другая. — Но вот что непонятно: как существа, у которых нет ни клюва, ни перьев, ни крыльев и которые ходят на двух ногах, могут думать, что и у них, как у птиц, душа бессмертна».
— Все равно, — сказал Прадель, — когда я слышу орган, мне в голову лезут благочестивые мысли.
— Requiem asternam dona eis, Domine[41].
Прославленный автор «Ночи на 23 октября 1812 г.» вошел в церковь, и в тот же миг он оказался повсюду, и у алтаря, и в притворе, и на хорах. Надо думать, что он уподобился Хромому бесу[42], оседлавшему свой костыль, и носился над головами у всех, иначе как мог бы он в мгновение ока перейти от депутата Морло, в качестве свободомыслящего не вошедшего в церковь, к Мари-Клэр, стоявшей на коленях перед катафалком.