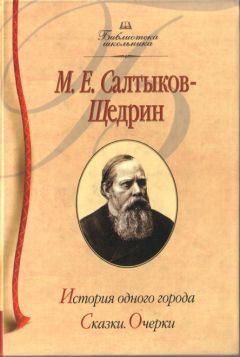Ромен Роллан - Жан-Кристоф. Книги 1-5
В то время кумиром был Бетховен. Бетховен — кто бы мог подумать? — стал модным композитором. По крайней мере, среди светских людей и литераторов; ибо музыканты немедленно отшатнулись от него, следуя законам механики, управляющей художественным вкусом во Франции. Чтобы знать, каких держаться взглядов, француз прежде всего выясняет, что думает его сосед, и тогда либо присоединяется к его мнению, либо утверждает нечто прямо противоположное. Видя, что Бетховен становится популярным, наиболее изысканные музыканты начали находить его недостаточно изысканным; они желали опережать общественное мнение, а вовсе не плестись у него в хвосте; предпочитали прямой разрыв с публикой общему с ней мнению. Так, Бетховен стал у них глухим, крикливым стариком, а некоторые утверждали даже, что хоть моралист он, пожалуй, почтенный, но слава его как музыканта сильно раздута. Эти дурные шутки были не по вкусу Кристофу. Восторги светских людей тоже не радовали его. Если бы в тот момент Бетховен прибыл в Париж, он стал бы героем дня; на свою беду, он умер сто лет назад. Успех Бетховена был обусловлен не столько его музыкой, сколько более или менее романтическими подробностями его жизни, рассказанными в чувствительных жизнеописаниях. Его свирепую львиную маску превратили в виньетку к романсу. Дамы умилялись; каждая намекала, что, если бы она была знакома с композитором, он не был бы так несчастен, — великодушие тем более непритворное, что говорившую нельзя было поймать на слове: «старик» уже ни в чем не нуждался. Вот почему виртуозы, капельмейстеры, устроители концертов открывали в себе бездну благоговения перед Бетховеном и, на правах его представителей, пожинали предназначенные ему лавры. Пышные фестивали, по очень высоким ценам, давали светским людям случай проявить свою щедрость, — а иногда также «открыть» ту или иную симфонию Бетховена. Комитеты из актеров, светских и полусветских людей и государственных мужей, уполномоченных Республикой печься о судьбах искусства, вдруг оповещали мир, что они собираются воздвигнуть памятник Бетховену; на подписных листах, наряду с именами нескольких порядочных людей, служивших ширмой для прочих, ставила свои имена вся та сволочь, которая попирала бы ногами живого Бетховена.
Кристоф смотрел и слушал. Он стискивал зубы, чтобы не сказать дерзости. Весь вечер он сидел со злым и напряженным лицом. Он не мог ни говорить, ни молчать. Говорить не потому, что хочется, и не потому, что приятна беседа, а просто из вежливости, потому что надо говорить, — казалось ему унизительным. Высказывать сокровенные свои мысли ему не дозволялось. Говорить банальности было выше его сил. Но и таланта вежливо молчать у него тоже не было. Если он смотрел на своего соседа, то слишком пристальным и острым взглядом: помимо воли он изучал его, а того это обижало. Если он говорил, то искренне верил в то, что говорит: это шокировало всех и даже его самого. Он ясно сознавал, что был здесь не на месте, и, достаточно чуткий, чтобы уловить тон среды, в которой его присутствие вносило диссонанс, досадовал на свое поведение не меньше самих хозяев. Он сердился и на себя и на них.
Когда же среди ночи он выходил на улицу и оставался в одиночестве, ему становилось так нестерпимо тошно, что не хватало мужества идти домой пешком; хотелось тут же броситься на землю, как бывало, когда он, маленький виртуоз, возвращался с вечеров у герцога и с трудом удерживался от такого же порыва. Иногда у него оставалось всего пять-шесть франков до конца недели, и все же он тратил два из них на фиакр. Он опрометью бросался в экипаж, лишь бы очутиться подальше, и всю дорогу стонал от отвращения. И он продолжал стонать дома, в постели, засыпая… Потом вдруг разражался хохотом, вспомнив какую-нибудь нелепую фразу. Он ловил себя на том, что сам повторял ее, передразнивая жесты говорившего. На следующий день и даже спустя несколько дней он иногда, гуляя в одиночестве, начинал вдруг рычать, как дикий зверь… Зачем ходил он к этим людям? Зачем он к ним ходит? Зачем принуждает себя повторять чужие жесты, чужое кривлянье, притворяться, будто интересуется тем, что вовсе его не интересует? Но вправду ли не интересует? Год тому назад он бы и часу не мог усидеть с этими людьми. Теперь же они забавляли его, хоть и по-прежнему раздражали. Неужели и он стал заражаться парижским равнодушием? И им овладело беспокойство, уж не сдал ли он. Но нет, напротив, он становился сильнее. В чуждой среде он стал свободнее духом. Глаза его невольно раскрывались на великую Комедию жизни.
Впрочем, нравилось ему это или нет, а приходилось мириться с такой жизнью, если он хотел, чтобы его творчество стало известно парижскому обществу, а парижское общество интересуется художественными произведениями, лишь поскольку оно знакомо с самим художником. Приходилось искать связей, если он хотел кормиться уроками, которые мог получить только в домах мещан и филистеров.
А потом, у каждого ведь есть сердце; и сердце помимо нашей воли привязывается; оно находит, к чему привязаться, в какую бы среду ни попало; и если бы не привязывалось, не могло бы жить.
В числе других учениц Кристоф давал уроки дочери богатого автомобильного фабриканта, Колетте Стивенс. Отец ее был выходец из Бельгии, сын обосновавшегося в Антверпене англо-американца и голландки; мать — итальянка. Настоящая парижская семья. Для Кристофа — да и для многих других — Колетта Стивенс олицетворяла собой тип французской девушки.
У этой восемнадцатилетней девицы были черные бархатистые глаза, которыми она нежно поглядывала на молодых людей; зрачки, как у испанки, заполнявшие всю орбиту влажным блеском; чуть длинноватый капризный носик, который она, когда говорила, слегка морщила с задорными гримасками; растрепанные волосы; неправильное, но смазливое личико, с неважной запудренной кожей и простоватыми пухленькими щечками и губками, напоминавшее мордочку надувшегося котенка.
Миниатюрная, прекрасно одетая, обольстительная, дразнящая, с жеманными, вкрадчивыми, деланно наивными манерами, она разыгрывала из себя маленькую девочку и часа по два раскачивалась в качалке, восклицая что-нибудь вроде: «Нет! Не может быть!..»
За столом она хлопала в ладоши, когда подавали ее любимое блюдо; в гостиной курила папиросу за папиросой, при мужчинах прикидывалась, будто нежно любит своих подруг, — бросалась им на шею, ласково гладила им руки, шептала что-то на ухо, говорила наивности, а иногда и колкости, преискусно-нежным и слабеньким голоском; при случае она этим же голоском как ни в чем не бывало умела сказать и большую непристойность, а еще лучше — вызвать на непристойность своего собеседника, и все это с самым простодушным выражением паиньки-девочки, поблескивая томными, с тяжелыми веками, плутоватыми глазами, лукаво косясь по сторонам; она подстерегала все сплетни, подхватывала любую двусмысленность, вечно старалась поймать на удочку чье-нибудь сердце.
Это глупое кривлянье, эти щенячьи ужимки, эта деланная простоватость ни в малейшей степени не прельщали Кристофа. Ему было не до уловок развращенной девчонки, они даже не забавляли его. Ему нужно было зарабатывать себе на хлеб, спасать от смерти свою жизнь и свои замыслы. Все эти салонные попугайчики интересовали его лишь постольку, поскольку они доставляли ему средства к существованию. Они платили ему, а он за деньги обучал их добросовестно, наморщив лоб, ничем не отвлекаясь; он решил не поддаваться ни скуке этих уроков, ни поддразниванью своих учениц, когда попадались кокетливые, вроде Колетты Стивенс. И самой Колетте он уделял не больше внимания, чем ее маленькой двоюродной сестре, молчаливой и застенчивой девочке тринадцати лет, воспитывавшейся у Стивенсов, которой он также давал уроки.
Хитренькая Колетта прекрасно почувствовала, что с Кристофом все ее авансы пропадут даром; в то же время она ловко сумела в одно мгновение приспособиться к его вкусам. Для этого не понадобилось даже никаких усилий. Она действовала инстинктивно. Колетта была женщина. Она, как волна, не имела определенной формы. Чужая душа являлась для нее как бы сосудом, форму которого она, когда нужно, усваивала — иногда просто из любопытства, а иногда по необходимости. Чтобы жить, ей постоянно требовалось быть кем-то другим. Вся неповторимость ее личности заключалась в том, что она никогда не оставалась самой собой. Она слишком часто меняла сосуды.
Кристоф привлекал ее по многим причинам, главной из которых было то, что она сама не привлекала его. Он привлекал ее также тем, что не походил ни на кого из ее знакомых молодых людей, — никогда еще не попадался ей сосуд столь нескладный и столь замысловатой формы. И, наконец, обладая врожденной способностью определять с первого взгляда точную цену сосудов и людей, она ясно сознавала, что отсутствие внешнего лоска возмещается у Кристофа своего рода добротностью, какой лишены ее парижские куколки.