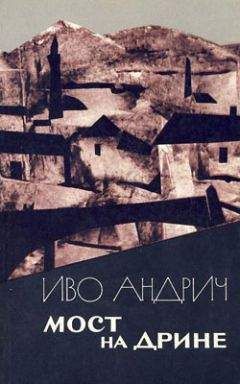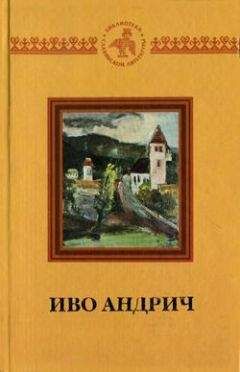Иво Андрич - Собрание сочинений. Т.3. Травницкая хроника. Мост на Дрине
— Знаю, знаю, — прервал его Давиль, — но строить дороги в Европе необходимо, и нельзя при этом считаться с такими отсталыми народами, как турки и боснийцы.
— Кто находит, что их надо строить, тот и строит. Значит, они ему нужны; я вам просто объясняю, почему здешний народ их не желает, почему он считает, что от них ему больше вреда, чем пользы.
Как всегда, стремление молодого человека объяснить и оправдать все, что он здесь видит, рассердило Давиля.
— Этого ни защитить, ни объяснить разумными доводами нельзя, — сказал консул. — Причина отсталости здешнего народа главным образом в его озлобленности, «врожденной озлобленности», как говорит визирь. Она и служит объяснением всему.
— Хорошо, но как вы тогда объясните самую озлобленность? Откуда она взялась?
— Откуда, откуда?! Говорю вам, она врожденная. У вас будет возможность в этом убедиться.
— Пусть так, но, пока я в этом не удостоверюсь, разрешите мне остаться при своем мнении, что озлобленность или добросердечие народа — результат условий, в которых он живет и развивается. На сооружение дорог нас толкает не доброта, а стремление и желание расширить выгодные нам связи и влияния, что многие объясняют нашей «озлобленностью». И выходит, что наша озлобленность заставляет нас строить дороги, а их — ненавидеть и по возможности разрушать эти дороги.
— Вы далеко зашли, мой молодой друг!
— Нет, это жизнь идет вперед, быстрее, чем мы можем за ней угнаться, а я только пытаюсь объяснить отдельные явления, раз не могу понять всего.
— Невозможно все понять и объяснить, — устало и чуть пренебрежительно обронил Давиль.
— Невозможно, а все же стоит постараться.
Дефоссе, выпив вина и утолив голод после прогулки по холоду, побуждаемый свойственной молодости потребностью рассуждать, продолжал вслух развивать свою мысль.
— Вот как это можно объяснить. Хитроумный и осторожный долацкий священник, о котором я вам говорил, обладающий здравым смыслом и знающий жизнь, в прошлое воскресенье произнес в долацкой церкви проповедь. Как передавал мне наш телохранитель-католик, священник рассказывал об одном праведном монахе, на днях умершем в Фойницком монастыре. Если этот монах и не был святым, то находился в непосредственном общении со святыми, и каждую ночь, что священнику достоверно известно, ангел приносил ему письмо от какого-нибудь святого или даже от самой богородицы.
— Вы еще не знаете ханжества этих людей.
— Хорошо, назовем это ханжеством, но ведь это слово ничего не объясняет.
Давиль, «разумно и умеренно либеральный», не любил даже самых невинных разговоров на религиозные темы.
— Именно этим все и объясняется, — настаивал Давиль слегка язвительно. — Почему наши священники не проповедуют подобных вещей?
— Потому, господин Давиль, что мы не живем в подобных условиях. Воображаю, что бы мы проповедовали, живи мы, как живут здешние христиане вот уже три столетия. Ни на земле, ни на небесах не хватило бы чудес для нашего религиозного арсенала в борьбе с захватчиками-турками. Уверяю вас, что чем внимательнее я присматриваюсь и прислушиваюсь к этому народу, тем яснее вижу, как мы ошибаемся, когда, покоряя Европу страну за страной, всюду стараемся внедрить наши понятия, наш строгий и исключительно рассудочный образ жизни и поведения. Этот натиск представляется мне все более напрасным и бессмысленным, ибо глупо пытаться устранить злоупотребления и предрассудки, если не имеешь ни силы, ни возможности устранить породившие их причины.
— Это бы далеко нас завело, — перебил Давиль своего чиновника. — Не беспокойтесь, есть люди, которые и об этом думают.
Консул встал и нетерпеливо и резко позвонил, чтобы убирали со стола.
Стоило Дефоссе с присущей ему искренностью и свободой, не зависящими от его сознания, которым Давиль втайне завидовал, начать критиковать императорский режим, как консула передергивало и он терял выдержку и терпение. Он не мог спокойно выслушивать постороннюю критику именно потому, что сам колебался и был полон сомнений, сам себе в том не признаваясь. Казалось, молодой человек, беззаботный и неосмотрительный, касался пальцем самого больного места, которое он не только хотел скрыть от всех, но по мере сил и сам забыть о нем.
О литературе Давиль тоже не мог разговаривать с Дефоссе, а еще меньше о своих произведениях.
В этом отношении Давиль был наиболее чувствителен. С тех пор как он себя помнил, он всегда замышлял какие-то произведения, отшлифовывал стихи и придумывал ситуации. Лет десять назад он был одно время редактором литературного отдела в «Moniteur», посещал заседания литературных обществ и салоны. Все это он бросил, когда поступил в министерство иностранных дел и уехал на Мальту в качестве поверенного в делах, а потом в Неаполь, но к литературным занятиям пристрастился.
Стихи, которые Давиль иногда помещал в газетах или, каллиграфически переписав, посылал высокопоставленным особам, начальству и друзьям, были не хуже и не лучше тысяч современных поэтических произведений. Давиль называл себя «убежденным учеником великого Буало»[19] и в статьях, которых никто и не думал опровергать, решительно отстаивал строгое классическое направление, защищая поэзию от чрезмерного влияния воображения, от поэтических дерзаний и духовного хаоса. Вдохновение необходимо, повторял Давиль в своих статьях, но оно должно подчиняться разуму и здравому смыслу, без которых нет и не может быть художественного произведения. Давиль столь усиленно подчеркивал эти принципы, что у читателя создавалось впечатление, будто его больше интересует порядок и строгий размер, чем сама поэзия, словно поэт и поэзия им все время угрожают и их надо всемерно оберегать и защищать. Образцом для Давиля из современных поэтов был Делиль (Jacques Delille), автор «Садов» и переводчик Вергилия[20]. В защиту его поэзии Давиль написал ряд статей в «Moniteur», на которые никто не обратил особого внимания, не хвалил и не оспаривал.
Уже много лет Давиль вынашивал план объемистого эпоса об Александре Великом[21]. Задуманный в двадцати четырех песнях, эпос этот стал своего рода дневником Давиля. Весь свой житейский опыт, мысли о Наполеоне, о войне, о политике, свои желания и возмущение Давиль переносил в отдаленные времена и туманные условия, в которых действовал его главный герой, и тут давал им волю, стараясь выразить их правильными стихами, более или менее строго соблюдая рифму. Давиль так сжился с этим произведением, что своего среднего сына Жюля-Франсуа назвал еще Аминтасом в честь македонского короля, деда Александра Великого. В его «Александриаде» описывалась и Босния, нищая страна с суровым климатом и злыми людьми под названием Таврида. Фигурировали в ней и Мехмед-паша, и травницкие беги, и боснийские монахи, и все прочие, с кем Давилю приходилось сотрудничать или бороться, выведенные под видом приближенных Александра Великого или его врагов. Давиль излил в поэме все свое отвращение к азиатскому духу, к Востоку вообще, выраженное в борьбе его героя против далекой Азии.
Проезжая верхом над Травником и глядя на городские крыши и минареты, Давиль часто слагал в голове описание фантастического города, осаждаемого Александром. Наблюдая во время дивана у визиря за бесшумными, но проворными слугами и ичогланами, он часто мысленно дополнял описание заседания сената в осажденном Тире из третьей песни своего эпоса.
Как у всех писателей без дарования и истинного призвания, у Давиля было досадное и неискоренимое заблуждение, что к поэзии человек приходит в результате сознательной умственной деятельности и что в поэтическом творчестве можно обрести утешение и награду за все зло, которым нас обременяет окружающая жизнь.
В юности Давиль часто спрашивал себя: поэт он или нет? Есть ли смысл заниматься ему этим искусством, может ли он надеяться на успех? Теперь, после стольких лет и стольких усилий, не принесших ни успеха, ни поражения, могло уже стать ясно, что Давиль не поэт. Но, как нередко случается, с годами Давиль все упорнее, все более механически и однообразно «работал в поэзии», даже не задаваясь вопросом, который молодость, честно оценивая и смело критикуя себя, так часто ставит перед собой. Когда он был, молод и еще встречал людей, признававших его талант, он писал меньше, а теперь, когда был уже в летах и никто всерьез не принимал его стихов, он работал регулярно и старательно. Неосознанное влечение к самовыражению и обманчивая сила молодости сменились теперь ленивой привычкой и прилежанием. Прилежание — добродетель, так часто появляющаяся там, где она не нужна или когда в ней уже нет необходимости, спокон веков служила утешением бесталанным писателям и являлась несчастьем для искусства. Исключительные обстоятельства, одиночество и скука, на которые Давиль был обречен долгие годы, псе сильнее толкали его на этот бесплодный обманчивый путь, на безобидный грех, именуемый поэзией.