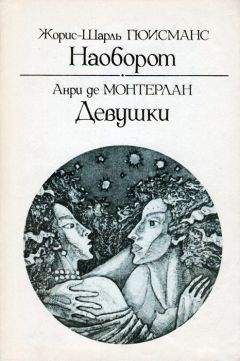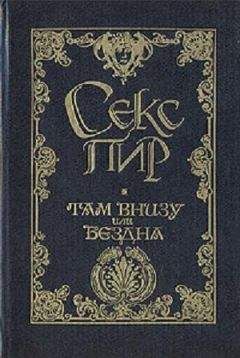Жорис-Карл Гюисманс - Наоборот
Дез Эссенту пригрезилось, что в сумерках он идет по лесной тропинке рядом с женщиной, которую никогда раньше не видел. Она была худа, веснушчата, с белесыми волосами, бульдожьей челюстью, вздернутым носом и выпирающими кривыми зубами. На ней белый, как у горничной, фартук, армейская кожаная накидка, короткие прусские солдатские сапоги и черный чепец с оборкой и бантом.
С виду походила она на циркачку, балаганную плясунью.
Дез Эссент ощущал, что издавна знает ее, но так и не смог ответить на вопрос, кто же она такая. Он силился вызвать в памяти ее имя, адрес родственников, характер занятий. Но нет, он напрочь забыл, как и почему связан с ней. Однако отрицать эту связь было едва ли возможно.
Он все еще пытался что-то вспомнить, как вдруг заметил всадника, который, проскакав с минуту, оглянулся.
От этого взгляда дез Эссент застыл на месте и похолодел от ужаса. У всадника, существа эфирного, бесполого, лившего вокруг себя зеленый свет, были фиолетовые веки и невыносимо холодные голубые глаза. Рот весь в прыщах. Из-под лохмотьев торчат костлявые, как у скелета, и лихорадочно трясущиеся руки. Идут дрожью и не менее костлявые ноги. Они тонут в чересчур широких сапогах с высоким голенищем.
Страшный взгляд был прикован к дез Эссенту и леденил его душу. Женщина-бульдог пришла в еще больший ужас. Запрокинув голову, она словно издала предсмертный хрип.
Смысл видения тотчас дошел до него. Всадник воплощал сифилис.
Обезумев от страха и позабыв обо всем на свете, дез Эссент свернул влево и по тропинке бросился к домику в зарослях ракитника; едва вбежав в коридор, рухнул на стул.
Не успел он отдышаться, как услышал рыдание. Он поднял голову. Рядом стояла женщина-бульдог. Жалкая, страшная, заливаясь горючими слезами, она поведала ему, что на бегу потеряла вставную челюсть. Потом достала из кармана фартука фарфоровые трубочки и, разбив на части, стала вставлять их вместо зубов в десны.
— Что за глупость! — пробормотал дез Эссент.— Они же выпадут! — И действительно все так и произошло.
В этот миг послышался стук копыт. Ужас охватил дез Эссен-та. В ногах началась дрожь. Стук раздавался все ближе и ближе. Словно огретый хлыстом, дез Эссент в отчаянии вскочил на ноги. Женщина топтала остатки фарфора. Он вцепился в нее и умолял не шуметь, чтобы не обнаружить их присутствия. Она сопротивлялась; он потащил ее в глубь коридора, пытаясь зажать ей рот. Путь им преградила открывающаяся на обе стороны зеленая решетчатая дверь наподобие тех, которые встречаются в кабаре. Он было толкнул ее и хотел войти, но остановился.
Перед ним на поляне огромные белые воробьи скакали в лунном свете, как зайцы.
Он зарыдал от безнадежности. Никогда, нет, никогда он не сможет переступить порога. "Они же меня раздавят", — мелькнуло у него в голове. И, словно в подтверждение его мыслей, слетались все новые гигантские воробьи. Их лапы касались земли, а головы — неба. От их прыжков не было видно горизонта.
И тут стук копыт замер. Всадник был рядом, напротив круглого коридорного окошка. Дез Эссент, ни жив ни мертв, оглянулся и увидел за стеклом оттопыренные уши, желтые зубы и пар из ноздрей.
Силы оставили дез Эссента. Он не был способен ни на побег, ни на сопротивление и только закрыл глаза, чтобы не чувствовать на себе жуткий взгляд Сифилиса, который проникал сквозь стены. Однако он ощущался и с закрытыми глазами, отчего дез Эссент задрожал и покрылся холодным потом. Он уже со всем смирился и лишь надеялся, что чудовище сжалится и прикончит его одним ударом. Минута показалась ему вечностью. Трепеща, он открыл глаза: все как дым унеслось. Произошла резкая смена места действия и декораций, и теперь перед ним открылся пересеченный ущельями суровый горный кряж, удел безжизненный и серый. По этой юдоли скорби разливался маслянистый, тускло-белый свет, напоминавший о мерцании фосфора.
Неожиданно горный хребет пришел в движение и стал донельзя бледной обнаженной женщиной, ноги которой были затянуты в зеленые шелковые чулки.
Дез Эссент с любопытством смотрел на незнакомку. Ее ломкие волосы, точно после раскаленных щипцов, вились мелкими кудряшками. Из ушей, подобно серьгам, свешивались мешочки непентеса. Разрез ноздрей открывал утомленную плоть. Опустив веки, женщина шепотом позвала его.
Не успел он и шевельнуться, как она переменилась. Зажглись глаза. Запламенели, как антурий, губы. Стали твердыми красные, как перец, соски.
И вдруг его осенило. "Это же цветок", — догадался он. Внезапная догадка объяснила истоки кошмара и заставила вернуться к прежнему сну о сифилисе.
Приглядевшись, дез Эссент различил на груди и губах незнакомки рыжеватые и коричневые пятнышки, а затем и сыпь на теле. Он опешил и отпрянул в сторону. Однако ее глаза были колдовскими, и он стал медленно приближаться к ней, хотя и упирался как мог, и пытался упасть. Он уже почти ее коснулся, как вдруг подле него вырос лес черных аморфофаллосов и закрыл собой волнующуюся, как море, плоть. Он раздвигал и отталкивал теплые гибкие стебли и с омерзением видел, как они заплетают ей руки. Вдруг отвратительные растения исчезли, и она потянулась обнять его. От страха сердце дез Эссента застучало как молот, когда горящие глаза незнакомки стали светлеть и сделались до жути холодными и голубыми. Нечеловеческим усилием он попытался уклониться от ее ласк, но она властно притянула его к себе и заключила в объятия, а он с ужасом увидел, как запунцовел свирепый нидуларий, показал свое кровоточащее горло, раскрыл губы-бритвы.
Дез Эссент уже почти припал к мерзкой цветочной ране и чувствовал, что умирает, как неожиданно, подброшенный в воздух, проснулся в ледяном поту и, обезумев от страха, с облегчением выдохнул: "Это всего лишь сон. Слава тебе, Господи!"
Глава IX
Дез Эссента снова стали мучить по ночам кошмары. Он попытался бороться со сном, то бодрствуя и ворочаясь с боку на бок, то в забытьи погружаясь в жуткие грезы, когда он, словно оступаясь и скатываясь вниз по лестнице, падал в бездонную пропасть.
Утихший было невроз в последние дни возник вновь, обострился, стал разнообразней.
Его начало раздражать одеяло. Он задыхался в простынях, его или знобило, или бросало в жар; в ногах кололо. К тому же началась тупая боль в челюстях, а виски сжало, точно в тисках
Усилилось чувство тревоги. К сожалению, должных средств борьбы с неврозом не было. Гидротерапию устроить в ванной комнате не удалось. Дом расположен был слишком высоко. Получать воду в нужном количестве на подобной высоте оказалось сложно. В округе расходовали ее скупо, да и то в определенное время. Устроить душ для массажа позвонков, от которого полностью проходили бы бессонница и тревога, у него также не получилось. Поэтому он ограничился краткими водными процедурами в тазу или ванне с последующим сильным растиранием волосяной мочалкой, в чем ему помогал слуга.
Но эти ополаскивания не излечивали невроза. Они приносили недолгое облегчение, но затем приступы становились сильней и мучительней.
Дез Эссент совсем приуныл, и экзотические цветы уже не радовали. Он пресытился и формой их, и красками. К тому же многие из них, несмотря на хороший уход, зачахли. Он велел вынести цветы вон, но в своем нынешнем нервном состоянии раздражался, поскольку вид опустевших комнат был для него неприятен.
Чтобы развлечь себя и занять время, он начал разбирать папки с эстампами и занялся Гойей.Его увлекли купленные на распродаже первоначальные варианты "Капричос"[83], стоившие целое состояние и узнаваемые по своему красноватому тону. Он погрузился в них, плененный фантазией художника. Его притягивали немыслимые сцены — ведьмы верхом на кошках, женщины, вырывающие зубы у повешенного, злодеи, суккубы, демоны, карлики.
Потом он перебрал офорты и акватинты других серий: мрачные "Пословицы", полные ярости и исступления "Бедствия войны" и, наконец, лист из "Гарроты". Ему особенно нравился этот дивный пробный оттиск на толстой бумаге с проступавшими на нем водяными знаками в виде линий.
Страстность и суровая мятежность гения Гойи приводили дез Эссента в трепет. Однако повальное восхищение художником слегка отвратило его от испанца, и он перестал обрамлять вещи Гойи и вешать их на стены из опасения, что первый же кретин при виде этих картин сочтет за долг изображать восторг и нести заученную чушь.
То же самое касалось и Рембрандта. Дез Эссент смотрел его изредка, украдкой. Что говорить, самая прекрасная на свете мелодия становится самой ужасной, отвратительной и невыносимой, как только толпа бросается насвистывать ее, а оркестры берутся за исполнение на концертах! Равным образом и живопись увлекает как избранных, так и профанов и, соответственно, опошляясь и вульгаризируясь, чуть ли не отвращает от себя посвященных.