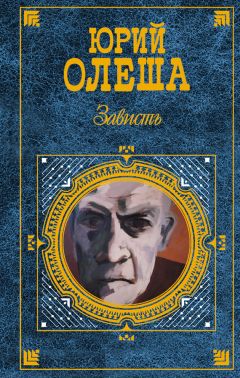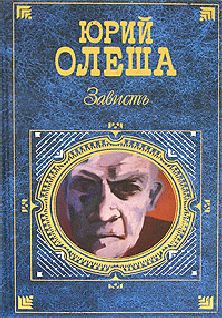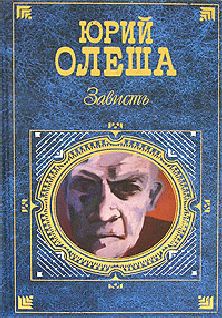Юрий Олеша - Ни дня без строчки
Полное ничтожество даже в гимназическом плане. Правда, красивый парнишка, с золотистыми волосами и черноглазый. Фамилия его была Шиян.
– Павка Шиян!
Так фонетически и выскакивает он иногда из самых неинтересных складок сознания – только фонограмма, запись даже не его голоса, а чьих-то других голосов, зовущих его:
– Павка!
И вдруг появилось и изображение… Солнечный день, спуск по Греческой, от Пушкинской к Польской, мимо ворот и кондитерской Меллисарато – солнечный под деревьями кусочек улицы, и мы на этом или, вернее, в этом кусочке – нас несколько, мы молодые, но не могу назвать всех.
Это очень давно, очень! Другой строй, другой мир! Это война, это царь, это ризы, это иконы, которые везут в экипаже, большие темные лики по соседству с лампасами и кителем полицмейстера, это синие купола подвория, это матросы с усиками, с бочкообразными грудными клетками…
Это два матроса, которые идут по спуску мимо кондитерской Меллисарато навстречу нам.
– Подлец! – говорит Павка Шиян одному из них. – Подлец!
Павка Шиян два или три дня тому назад стал офицером.
Золотая голова, золотые погоны, золотая тужурка…
– Подлец!
– Виноват, – говорит тот с усиками, красавец, чистый, розовый, с ласковыми усиками. – Ваше благородие, виноват.
Оба стоят навытяжку, зрелые люди…
Мы поджидали его появления, и когда видели, что вот он уже близко, занимали позиции с таким расчетом, чтобы и продолжая свой путь, он встретил на нем каждого из нас – одного, потом другого, потом третьего, – и каждый из нас, трех мальчиков, стоял во фронт, отдавая ему честь.
Генерал с чрезвычайной серьезностью и вежливостью отвечал нам. Генеральская шинель вдруг под влиянием ли ветра или от какого-либо движения показывала свою красную подкладку, и это было как раз в то мгновение, которое нас радовало больше всего. У генерала были не слишком седые усы с подусниками, что делало его похожим на Александра II. Его фамилия была Игнатьев – может быть, это был какой-либо родственник автора «50 лет в строю». Впрочем, если бы это было так, то он был бы граф, а графом этот генерал не был.
Некоторых я помню настолько отчетливо, что кажется, мы только что расстались.
Вот по залитому солнцем Строгановскому мосту мы идем с Гришкой Берберовым. Куда – не знаю; может быть, уже откуда-то… На мосту никогда не бывает тени. Только от пешеходов, очень черная круглоголовая тень…
Внизу за прутьями ограды – порт! О порте потом. О порте потом. Сейчас о Берберове. Он сын парикмахера, бледный, худой, в веснушках, греховный, познавший многие тайны, с мужским выпуклым взглядом еврей. У него впалая грудь, над которой висит взрослый нос; у него африканская фамилия… Гришка Берберов гимназист с весом, второгодник. О, главное – познавший тайны, познавший тайны…
Мы останавливаемся над портом, смотрим вниз. Там в мерцающей глубине булыжники, среди них – трава.
– Идем, идем, – говорит непоэтический Берберов. – Идем.
– Куда?
Может быть, он ведет меня познавать тайны?
Когда я только поступил в гимназию и совсем маленьким мальчиком, хоть и в форме, ходил по коридорам, дивясь на взрослых гимназистов, вдруг стало известно, что как раз один из старшеклассников – Ольшевский – покончил с собой, застрелившись из револьвера. Каково было понять это? Во всяком случае акт воспринимался с внутренним уважением. Мы, приготовишки, между прочим, вдруг подкрались к дверям класса, к которому принадлежал самоубийца, и закричали «Ольшевский!», так сказать, пугая товарищей погибшего… Дурачки! И как это мы умудрились представить себе бедного юношу в виде привидения! Почему застрелился – не помню. Впрочем, мы и не поняли бы, если бы узнали, что причина, скажем, сифилис. Тогда это было частым явлением. Когда-нибудь я расскажу, как уже в более позднем возрасте один из моих товарищей, грек, сын булочника, поняв, что он заболел сифилисом, пал при всех нас, в общем циниках, на колени и молился, прося бога о чуде – исцелении… Я видел эту язву, этот страшный твердый шанкр, через воронку которого столько жизней свергло себя в неизвестный край. Я еще расскажу об этом и также о том, как великий Главче, корифей-венеролог в тогдашней России, не признал язвы за сифилитическую, дав понять при этом, что некоторые врачи наживаются даже и тут – на этом страхе, порой стоившем жизни.
Мне было одиннадцать лет, и я сидел в цирке на чемпионате французской борьбы. Так как было лето и цирки уже не работали, то этот цирк был некоей комбинацией цирка и кино, то есть был еще и огромный висящий передо мной экран. Кроме того, ряды стульев были расставлены и на арене, с расчетом, чтобы зрители могли смотреть на экран. Очевидно, борьба происходила на какой-то эстраде перед экраном, этого восстановить в памяти я не могу.
Дело и не в этом. Дело в том, что я, чтобы лучше видеть, то и дело поднимался, вернее приподнимался, кому-то, вероятно, мешая. И в одно из таких приподниманий я, маленький гимназист, способный, неглупый и в общем нетребовательный к миру индивидуум, был остановлен сзади тяжкими руками кого-то.
– Если вы еще раз позволите себе подняться, – услышал я, – я выведу вас из цирка.
Меня потрясло ощущение колоссального количества накопленного против меня гнева в этом человеке, которого я еще не видел. Я его увидел. Это был известный в Одессе пристав Радченко. Он был даже по-своему красив в своей серой шинели и с черными усами. Тут воспоминание кончается. Я только помню ощущение обиды, которая была, очевидно, и у студентов-террористов, только в другом масштабе.
Не успели мы освоиться с тем, что один из нас попал в эти страшные лапы, как тут же стало известно, что он и побежден. В зимнее утро, только-только вставши ото сна, только-только раскутавшись в швейцарской, довольно тягостно было услышать, что Володя Долгов умер.
Да, да, от скарлатины. Что могло быть страшней этого слова? Звук «скарла» заставлял меня содрогаться. На других языках это иначе. По-немецки, например, шарлях. Там нет этого «скарла», представлялось просто некоей одушевленной фигурой, некоим гением, приходившим в спальню за детской душой.
Я пишу о времени, когда не было пенициллина. Скарлатина была бичом детства, первых классов гимназии. Еще был крупп – нечто еще более страшное, еще более заставлявшее нас содрогаться, но это было связано с деревней и пребыванием где-то за очень темными окнами, в которые, сидя у лампы, даже и не очень хотелось смотреть.
Я не помню, как выглядел Володя Долгов. Его смерть – событие ранних лет моей жизни, событие из жизни первоклассников, мальчиков лет по одиннадцати… Тем не менее это событие незабываемо. Надо не надо, оно всплывает в моей памяти во всей своей значительности и торжественности.
Он был из относительно высоких мальчиков. Это я помню – высокий. Помню его в виде высокого голубоватого пятна – это он стоял поблизости, когда я разговаривал с кем-то. Голубоватое пятно – это потому, что мы были в серых форменных костюмах. Боже мой, что можно помнить, если это всего лишь первый класс! Еще никто не успел подружиться и рассмотреть друг друга, и вдруг – смерть. Что это – смерть?
Ты опять, Добродеев, всплываешь в темном пространстве закрытых век. Причем, кроме тебя, в этом пространстве я вижу еще кости Строгановского моста… Вот ты выбегаешь из своего трактира бритый, подвижной, с голой головой – скорей похожий на ксендза, чем на хозяина трактира, где носятся волны чайников, оседающие то тут, то там, волны чайников с травой, рыбами и птицами.
Помнишь ли ты меня, Добродеев? Я был тогда мальчиком, и ты как-то заметил меня – во всяком случае, смеялся вместе со мной по забытому мною поводу… Чайники летали, и с них не сыпалась трава и не сползали рыбы. Я стал писать по-русски – на языке, на котором писал Пушкин.
Все хорошо, Добродеев. Скоро я буду черепом, и меня не отпоют в костеле на Екатерининской, куда ты хоть и православный, а заглядывал, потому что хотел увидеть, как идет из темноты платок Марианны, которую ты любил.
Коммерческое собрание помещалось в одной из фешенебельных частей города в превосходном особняке – серый, двухэтажный дом, не громоздкий, с флагштоком над главной, выходящей из угла дверью.
Я запомнил внушительный, богато-мрачноватый вид этого особняка в пасмурное утро, когда, направляясь в гимназию, я издали, с параллельного квартала, бросал на него взгляд.
Это был клуб для карточной игры, самая настоящая обираловка, но замаскированная под приличие, под внушительность, даже под благотворительность… Я, например, учился на счете Коммерческого собрания, был его стипендиатом.
Одесские богачи. Я не видел ни одного из них. Я только слышал их имена: Бродский, Гепнер, Хари, Ашкинази, Пташников, Анатра… Еще многие, которых я не помню.
Это были банкиры, хлебные экспортеры, темные, преступные…
Меня никогда не интересовала экономика. Все мое существование в экономике выражалось в том, что я покупал в булочной хлеб, в магазине обуви – ботинки, в театральной кассе – билеты. Мне не приходило в голову, что такое положение вещей, в котором я получаю за что-то деньги и за что-то их отдаю, зависит от каких-то причин, которые могут изменяться и которые надо почему-то изменять. Это положение вещей казалось твердым, даже не подлежащим обсуждению, казалось раз заведенным, давно заведенным, правильным и счастливо найденным, идеальным. В самом деле, что могло быть для воображения более достойным одобрения, чем, скажем, бакалейная лавочка? Она была освещена желтым светом керосиновой лампы, бросавшей на плиты тротуара желтые прямоугольники, иногда скошенные и предвещавшие французскую живопись; она всегда помещалась в углу большого с кариатидами дома, и чтобы спуститься в нее, нужно было сбежать по нескольким ступенькам, отчего делалось весело; в ней можно было купить почтовую марку, переводные картинки, фунт крупы, огурцы, ракету.