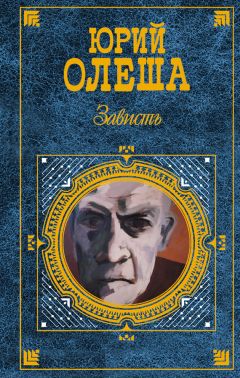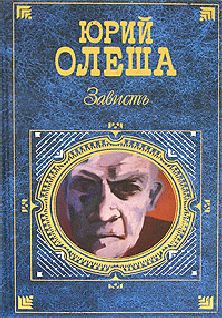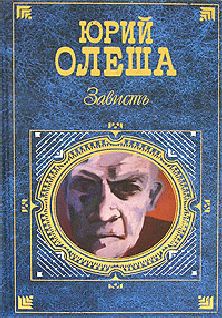Юрий Олеша - Ни дня без строчки
Пусть это будет рассказ об уроке рисования в гимназии, когда мы, сидя в актовом зале, рисуем с натуры чучело ястреба. Учитель рисования, Иван Архипович Архипов, пшеничный блондин в почти голубом мундире, который развевается на нем, ходит среди нас и говорит каждому слова одобрения.
– Эва, наливает! Глядите-ка, эва! – восклицает он, останавливаясь возле Коли Данчева.
Он особенно любил Колю Данчева.
Коля Данчев – болгарин. В Одессе их много, болгар, целая колония. Кроме Данчевых – Рашеевы, Болгаровы, Гулевы, Увалиевы. Данчев небогатый, однако все же помещик, мы дразним его по поводу именно его принадлежности к богатым. У него крупный, часто подвергающийся насморку нос, он сильный мальчик, даже несколько развинченный, какими бывают как раз сильные мальчики…
Я всю ночь рисовал и писал акварелью эту картинку для украшения программки, которую завтра на концерте, предполагалось, преподнесут кому-то из высокопоставленных приглашенных. Мне кажется сейчас, что я рисовал богатыря, рубящего мечом медведя. Самокиш-Судковского? Васнецова? Очевидно, я рисовал и писал красками неплохо, если эту программку на другой день предполагалось преподнести знатному гостю… Не помню, как я рисовал и писал. Помню, что я устал, что слипались глаза… Помню богатыря с бородой, под шлемом. Помню, что сижу за обеденным столом, один, в спящей квартире – один; сзади, за спиной, окна, выходящие во двор, ночь. И лицо богатыря под шлемом, и страх нанести ошибочный штрих тонкой кисточкой, берущей блестящую зеленую или кармин. Сзади окна, а чуть дальше Строгановский мост над поросшими травой улицами порта, еще дальше пароходы, пришедшие из Италии, Англии, спят в каютах негры. И где-то спит в своей комнате, которую я никогда не видел, Поля Аушева, гимназистка с белым твердым лицом, с белым твердым носиком, небольшого роста, с глазами, которые сейчас смотрят на меня из-за обоев.
Поля Аушева! Она несколько лет спустя стала актрисой, плохой актрисой районного, как бы теперь сказали, театра. Тем не менее я ждал того часа, когда, поднимаясь по Греческой улице, я пройду мимо ее окна – по ту сторону улицы – и увижу ее в окне, всегда садившуюся к этому часу к окну и отвечавшую мне на поклон.
Милеев рисовал, подражая Врубелю. Собственно, не рисовал – писал акварелью. Небольшие листки александрийской бумаги, на них изображения чего-то вроде Берендеева царства, как его изображают в опере или выжигают на шкатулках. Сходство с Врубелем усматривалось, вероятно, в том, что на листках, густо покрытых красками, было смешано лиловое с белилами. Белила, как известно, чужды акварели, и наличие их казалось поэтому экстравагантным, левым. Вот и Врубель! Разумеется, мы, сидевшие в классе, мало разбирались в именах современных нам художников; о Врубеле говорил учитель рисования, выделявший среди нас Милеева именно как последователя Врубеля. В этом альянсе учителя с учеником было нечто раздражающее, в особенности это касалось меня: я чувствовал, что то жреческое высокомерие, которое проявлял Милеев по отношению к нам, ни на чем не основано. Наоборот, я чувствовал, что он бездарный и что нет ничего легче, как показаться гением, подражая левому.
Он серьезно верил, что он гений. До сих пор помню, как рассматриваются его картины, похожие, как я теперь понимаю, на оперные эскизы. Это был десятый, сотый отголосок того Врубеля, который и сам не кажется замечательным, – Врубеля принцессы Грезы.
Я этого Милеева видел уже во времена, когда гимназия осталась далеко позади. Он был отечный, надутый, больной, дающий классический тип непризнанного человека. Конечно, я спрашивал его, что он теперь делает, чем занят; он отвечал мне что-то, что по содержанию и по тону было направлено главным образом, чтобы парировать мою атаку на него, которой вовсе и не было.
В классе нашем между тем были поистине одареннейшие два художника, причем не проявлявшие себя в каких-либо акварелях, где можно в конце концов быть и неточным, производя все же впечатление, а работавшие пером. Это были иллюстраторы, карикатуристы, как теперь думаю я, блестяще владевшие этой манерой – трудной манерой, требующей настоящего мастерства. Ведь им было всего лишь по семнадцати лет! Одного звали Сережа Протопопов, другого – Володя Ляхницкий. В них было прелестно то, что каждый из них говорил именно о другом, что вот он как раз хорошо рисует, а я как раз – ерунда. Сережа Протопопов был некрасивый той чарующей некрасотой, которая и выдает гения: он шепелявил, хохотал малопоместительным ртом, что заставляло его по-старушечьи морщить свое молодое лицо… Володя Ляхницкий был обезьяновидный мальчик, тоже любивший хохотать, тут уж во весь весьма поместительный рот – от уха до уха, – любивший разыгрывать, но вместе с тем и показывавший то и дело доброе и большое сердце.
– Вот! Вот как Сережка рисует! – восклицал он, потрясая рисунком со стекающими чернилами.
Я дивился им обоим, и когда я теперь думаю о тех деятелях в области таланта, которых я знал, то я готов прийти к выводу, что те двое, два странных, юных, небрежных, хохочущих мальчика, – мастера, что именно они вьются где-то и летают где-то с трубами на углах хартии моей жизни – жизни художника.
Сережа Тодорович был одним из красивейших в классе. Пожалуй, он был несколько полноват для юноши… Правда, правда, мы иногда посмеивались над его толщиной, хлопали его по заду. Нет, все же красивый: этот профиль с филигранным носом, эти выпуклые голубые глаза…
Мы сидели на одной парте. Он учился плохо, списывал у меня письменные работы, получал за это единицы. Он хохотал, не терял веселого расположения духа. Его даже не слишком расстраивал вечный триппер. В почти голубой форме, с лакированным дорогим поясом, изящно полный, живущий в хорошей квартире, где папа был прокурор, он в общем процветал, был счастлив.
Он был нежно глуп, – вот что я о нем сказал бы, – нежно глуп.
Скшиван был болезненный мальчик, очень болезненный, что проявлялось иногда у всех на виду, когда вдруг во время урока с ним происходила дурнота, оканчивавшаяся рвотой. Он был поляк, звали его Фаддей, то есть, по-польски, Тадеуш, с характерным для поляков рисунком губ, как бы постоянно сложенных для причмокивания, бледный, с желтоватостью на скулах, волосы пегие.
Директор, вообще хам и еще щеголявший хамством, относился к Скшивану с какой-то даже подчеркнутой вежливостью, не знаю – почему: тот не принадлежал к богатому или бюрократическому семейству… Возможно, здесь играла роль какая-нибудь интимная причина, какая-нибудь далеко стоявшая от гимназии и гимназистов женщина, близкая директору…
Один из сидевших на первой парте в среднем ряду – по фарватеру, так сказать, впереди меня – был Сперанде. Это был маленький, миниатюрно сложенный мальчик, очень быстро и притом так заманчиво бегавший, что каждому хотелось его поймать. За ним постоянно бегали в коридорах и во дворе – бегали гимназисты разных возрастов, а иногда и некоторые из учительского персонала. Так и остался в моей памяти Сперанде убегавшим от кого-то… И все кричат со всех сторон:
– Спирка! Спирка! Скорей! Спирка!
И Спирка с визгом проносится в разных направлениях, влетая в голубое пространство между двумя акациями, перепрыгивая через деревянную ступеньку и даже, что запрещалось, выбегая на улицу, где сразу же и преследуемый, и погоня окаменевали. Уже шагом, отдуваясь, возвращались они во двор…
Он был, вероятно, маленький грек, этот Сперанде, Спирка. Впрочем, масть его была желтая, носик острый – может быть, и не грек! Так и бегает в моей памяти Спирка, наверно, давным-давно убитый на Дону среди белогвардейцев или, наоборот, среди солдат латышской дивизии. Возможно, он и живет где-нибудь в Афинах, служит, может быть, в греческой полиции или имеет лавочку, и тоже, может быть, как и мне, снится ему иногда гимназия, тот уголок, полный влетающих в него благоуханий, где гимназисты, расхватывая шинели, толпились, ругались, целовались, зная, что сейчас выбегут на улицу и полетят на крыльях акаций.
Куда шел Лукашевкер? Что ж, домой, завтракать. Это было как раз в полдень, чуть позже, когда солнце поворачивалось под куполом. Лукашевкер понес свое полное тело впереди меня, поскольку уже попрощался со мной. Понес свое толстое тело в форме гимназиста среди клумб и стеклянных шаров этого великолепного барского палисадника, понес его по направлению к парадному, прохладно и богато черневшему по ту сторону клумбы с ее скульптурой лилий и гладиолусов.
Несколько лучше, чем сейчас, чувствовал я себя в те минуты, когда входил в квартиру Гришки Зильберберга. Вместе с ним, с Гришкой Зильбербергом, шел к нему в гости…
Я чувствовал себя, вероятно, очень хорошо, поскольку я был совсем юн, мальчик, здоровый мальчик, хорошо учившийся и чувствовавший, что впереди много интересного. Зильберберг-отец был богатый человек: у Гришки, например, была собственная комната. Нас встретил беспорядок в этой комнате – я сказал бы, желтый, деревянный, не мучительный, а скорее привлекательный беспорядок. Мне кажется, что даже была в комнате оставшаяся от детства лошадка на двух желтых деревянных дугах – для того, чтобы на ней кататься.