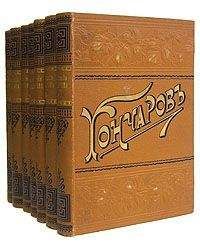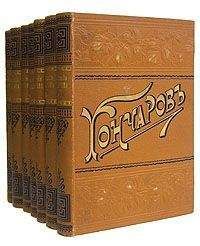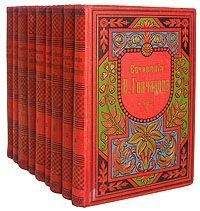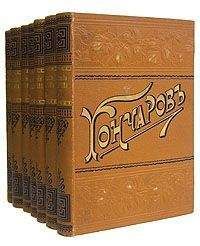Иван Гончаров - Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том. 7
762
человечности, добру и той любви, какую Творец вложил в ваши сердца, – и мы твердо вынесем битвы жизни и пойдем за вами вслед туда, где всё совершенно, где – вечная красота!
Время сняло с вас много оков, наложенных лукавой и грубой тиранией: снимет и остальные, даст простор и свободу вашим великим, соединенным силам ума и сердца – и вы открыто пойдете своим путем и употребите эту свободу лучше, нежели мы употребляем свою!
Отбросьте же хитрость – это орудие слабости – и все ее темные, ползучие ходы и цели…»
Он остановился, подумал, подумал – и зачеркнул последние две строки. «Кажется, я грубости начал говорить! – шептал он. – А Тит Никоныч учит делать дамам только одни “приятности”». После посвящения он крупными буквами написал:
Часть первая
Глава I
Он встал и, потирая руки, начал скоро ходить по комнате, вдумываясь в первую главу, как, с чего начать, что в ней сказать.
Походив полчаса, он умерил шаг – будто боролся мысленно с трудностями. Шаг становился всё тише, медленнее. Наконец он остановился посреди комнаты как растерянный, точно наткнулся на какой-то камень и почувствовал толчок.
– Да, – шептал он в страхе, – чего доброго, пожалуй, вместо «высокой горы», да вдруг… Что это мне пришло в голову! – Он глубоко задумался.
«Ну, как я напишу драму Веры, да не сумею обставить пропастями ее падение, – думал он, – а русские девы примут ошибку за образец, да как козы – одна за другой – пойдут скакать с обрывов!.. А обрывов много в русской земле! Что скажут маменьки и папеньки!..»
Он минут пять постоял на месте, потом вдруг захохотал – и опять скорыми шагами заходил по комнате.
«Как побледнели бы русские Веры и как покраснели бы все Марфиньки, если б узнали, что я принял их… за коз!»
– Не это помешает мне писать роман, – сказал он, вздохнув печально, – а другое… например… ценсура!
763
Да, ценсура помешает! – почти с радостью произнес он, как будто нашел счастливую находку. – А еще что?
И задумался… «Кажется, больше ничего, следовательно, остается писать…»
Он умерил шаг, вдумываясь в ткань романа, в фабулу, в постановку характера Веры, в психологическую, еще пока закрытую задачу… в обстановку, в аксессуары; задумчиво сел и положил руки с локтями на стол и на них голову. Потом поцарапал сухим пером по бумаге, лениво обмакнул его в чернила и еще ленивее написал в новую строку, после слов «Глава I»:
«Однажды…»
Подумал, подумал и лег головой на руки, обдумывая продолжение. Прошло с четверть часа, глаза у него стали мигать чаще. Его клонил сон.
Ему показалось неловко дремать сидя, он перешел на диван, положил голову на мягкую обивку дивана, а ноги вытянул. «Освежусь немного, потом примусь…» – решил он… и вскоре заснул. В комнате раздавалось ровное, мерное храпенье.
Когда он проснулся, уже рассветало. Он вскочил и посмотрел вокруг удивленными, почти испуганными глазами, как будто увидел во сне что-то новое, неожиданное, точно Америку открыл.
– И во сне статуя! – произнес он, – всё статуя да статуя! Что это: намеки? указания?
Он подошел к столу, пристально поглядел на листки, в написанное им предисловие, вздохнул, покачал головой и погрузился в какое-то, должно быть, тяжелое раздумье. «Что я делаю! На что трачу время и силы? Еще год пропал! Роман!» – шептал он с озлоблением.
Он отодвинул рукопись в сторону, живо порылся в ящике между письмами и достал оттуда полученное за месяц письмо от художника Кирилова, пробежал его глазами, взял лист почтовой бумаги и сел за стол.
«Спешу – в здравом уме и твердой памяти, – писал он, – уведомить вас первого, любезный Кирилов, о новой и неожиданной, только что открывшейся для меня перспективе искусства и деятельности… Прежде всего тороплюсь кинуть вам эти две строки в ответ на ваше письмо, где вы пишете, что собираетесь в Италию, в Рим, – на случай, если я замедлю в дороге. Я сам еду в Петербург. Погодите – ради Бога – и я с вами! Возьмите меня с собой! Пожалейте слепца, безумца, только
764
сегодня прозревшего, угадавшего свое призвание! Долго блуждал я в темноте и чуть не сделался самоубийцей, то есть чуть не сгубил своего дарования, ставши на ложный путь! Вы находили в моих картинах признаки таланта: мне держаться бы кисти, а я бросался к музыке и, наконец, бросился к литературе – и буквально разбросался! Затеял писать роман! И вы, и никто – не остановили меня, не сказали мне, что я – пластик, язычник, древний грек в искусстве! Выдумал какую-то “осмысленную и одухотворенную Венеру”! Мое ли дело чертить картины нравов, быта, осмысливать и освещать основы жизни! Психология, анализ!
Мое дело – формы, внешняя, ударяющая на нервы красота!
Для романа – нужно… другое, а главное – годы времени! Я не пожалел бы трудов и на время не поскупился бы, если б был уверен, что моя сила – в пере!
Я сохраню, впрочем, эти листки: может быть… Нет, не хочу обольщать себя неверной надеждой! Творчество мое не ладит с пером. Не по натуре мне вдумываться в сложный механизм жизни! Я пластик, повторяю: мое дело только видеть красоту – и простодушно, “не мудрствуя лукаво”, отражать ее в создании…
Сохраню эти листки затем разве, чтобы когда-нибудь вспоминать, чему я был свидетелем, как жили другие, как жил я сам, что чувствовал (или вернее ощущал), что перенес – и…
И после моей смерти – другой найдет мои бумаги:
Засветит он, как я, свою лампаду -
И – может быть – напишет…
Теперь, хотите ли знать, кто я, что я?.. Скульптор!
Да, скульптор – не ахайте и не бранитесь! Я только сейчас убедился в этом, долго не понимая намеков, призывов: отчего мне и Вера, и Софья, и многие, многие – прежде всего являлись статуями! Теперь мне ясно!
Я пластик – вы знаете это, вы находите во мне талант. Стало быть, нужно мне только отыскать свое орудие и прием! У кого пальцы сложились, как орудие фантазии, в прием для кисти, у кого для струн или клавишей, у меня – как я теперь догадываюсь – для лепки,
765
для резца… Глаз у меня есть, вкус тоже – и feu sacré1 – да? вы этого не отвергаете? Не спорьте же, не послушаю, а лучше спасите меня, увезите с собой и помогите стать на новый путь, на путь Фидиасов, Праксителей, Кановы – и еще очень немногих!
Никто не может сказать – что я не буду один из этих немногих… Во мне слишком богата фантазия. Искры ее, как вы сами говорите, разбросаны в портретах, сверкают даже в моих скудных музыкальных опытах!.. И если не сверкнули в создании поэмы, романа, драмы или комедии, так это потому…»
Он чихнул.
«Вот, значит – правда! – подумал он, – что я пластик – и только пластик. Я отрекаюсь от музыки – она далась мне в придачу к прочему. Я кляну потраченное на нее и на роман время и силы. До свидания, Кирилов, – не противоречьте: убьете меня, если будете разрушать мой новый идеал искусства и деятельности. Пожалуй, вы поколеблете меня вашими сомнениями – и тогда я утону безвозвратно в волнах миражей и неисходной скуки! Если скульптура изменит мне (Боже сохрани! я не хочу верить: слишком много говорит «за»), я сам казню себя, сам отыщу того, где бы он ни был, кто первый усомнился в успехе моего романа (это – Марк Волохов), и торжественно скажу ему: да, ты прав, я – “неудачник”! А до тех пор дайте жить и уповать!
В Рим! в Рим! – туда, где искусство – не роскошь, не забава – а труд, наслаждение, сама жизнь! Прощайте! до скорого свидания!»
Он с живостью собрал все бумаги, кучей, в беспорядке сунул их в большой старый портфель – сделал «ух», как будто горбатый вдруг сбросил горб, и весело потер рука об руку.
XXIV
На другой день, с раннего утра, весь дом поднялся на ноги – провожать гостя. Приехал и Тушин, приехали и молодые Викентьевы. Марфинька была – чудо красоты, неги, стыдливости. На каждый взгляд, на каждый вопрос, обращенный к ней, лицо ее вспыхивало и
766
отвечало неуловимой, нервной игрой ощущений, нежных тонов, оттенков чутких мыслей – всего, объяснившегося ей в эту неделю смысла новой, полной жизни. Викентьев ходил за ней, как паж, глядя ей в глаза, не нужно ли, не желает ли она чего-нибудь, не беспокоит ли ее что-нибудь?
Счастье их слишком молодо и эгоистически захватывало всё вокруг. Они никого и ничего почти не замечали, кроме себя. А вокруг были грустные или задумчивые лица. С полудня, наконец, и молодая чета оглянулась на других и отрезвилась от эгоизма. Марфинька хмурилась и всё льнула к брату. За завтраком никто ничего не ел, кроме Козлова, который задумчиво и грустно один съел машинально блюдо майонеза, вздыхая, глядя куда-то в неопределенное пространство.
Татьяна Марковна пробовала заговаривать об имении, об отчете, до передачи Райским усадьбы сестрам, но он взглянул на нее такими усталыми глазами, что она отложила счеты и отдала ему только хранившиеся у ней рублей шестьсот его денег. Он триста рублей при ней же отдал Василисе и Якову, чтоб они роздали дворне и поблагодарили ее за «дружбу, баловство и услужливость».