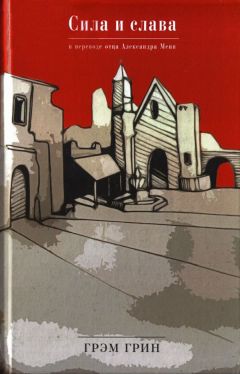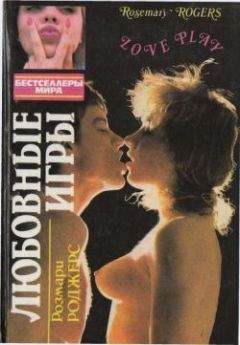Грэм Грин - Избранное
Огни снова погасли. В затишье между раскатами грома послышался слабый шорох, словно забегали крысы. Акуино, стоя у косяка двери, направил автомат в темноту.
— Не надо, — сказал отец Ривас, — это Мигель.
Новая волна дождя окатила крышу; ветер во дворе опрокинул ведро, и оно с грохотом покатилось.
Темнота длилась недолго. Может быть, молния вызвала короткое замыкание, которое теперь починили. Из хижины им было видно, как индеец поднялся на ноги, хотел побежать, но его ослепил свет. Он завертелся, прикрыв рукой глаза. Раздался одинокий выстрел, он упал на колени. Казалось, что солдаты 9-й бригады не желают тратить боеприпасы на такую ничтожную мишень. Индеец стоял на коленях, опустив голову, как набожный прихожанин во время вознесения даров. Он покачивался из стороны в сторону, словно совершая какой-то первобытный обряд. Потом с огромным усилием стал поднимать автомат, но повел его совсем не туда, куда следовало, пока не нацелил на открытую дверь хижины. Доктор Пларр наблюдал за ним, прижавшись к стене, ему казалось, что парашютисты злорадно ожидают, что произойдет дальше. Тратить еще одну пулю они не собирались. Индеец не представлял для них опасности: прожектора слепили так, что цель он не мог разглядеть. Им было безразлично, умрет он сейчас или несколько позже. Пусть валяется хоть до утра. Автомат пролетел по воздуху несколько футов к хижине. Но упал так, что его было не достать, а Мигель остался лежать на земле.
Акуино сказал:
— Надо втащить его сюда.
— Он мертв, — заверил его доктор Пларр.
— Почем вы знаете?
Свет снова погас. Люди, укрывшиеся за деревьями, словно играли с ними в жестокую игру.
— Рискните вы, доктор, — сказал Акуино.
— Что я могу сделать?
— Верно, — кивнул отец Ривас. — Они хотят выманить наружу кого-нибудь из нас.
— Ваш друг Перес может не открыть огня, если выйдете вы.
— Мой пациент находится здесь, — сказал доктор Пларр.
Акуино потихоньку растворил дверь пошире. Еще чуть-чуть, и можно было дотянуться до автомата. Акуино протянул к нему руку. Вспыхнул свет, пуля вошла в косяк двери, которую он едва успел захлопнуть. Должно быть, тот, кто ведал прожекторами, услышал скрип дверных петель.
— Закрой ставни, Пабло.
— Хорошо, отец мой.
Отгородившись от слепящего света, они почувствовали себя хоть в какой-то безопасности.
— Что нам делать, отец мой? — спросил негр.
— Убить Фортнума немедля, — отозвался Акуино, — а когда свет снова потухнет, попытаться бежать.
Пабло сказал:
— Двое из нас уже мертвы. Будет лучше, отец мой, если мы сдадимся. Ведь тут есть еще Марта.
— А как же месса, отец мой?
— Кажется, мне придется отслужить заупокойную мессу, — сказал отец Ривас.
— Отслужи какую хочешь мессу, — сказал Акуино, — но сперва убей консула.
— Разве я могу служить мессу, убив человека?
— А почему бы и нет, если ты можешь служить мессу, собираясь убить человека? — сказал доктор Пларр.
— Эх, Эдуардо, значит, ты все еще католик, если умеешь поворачивать в ране нож. Ты еще будешь моим исповедником.
— Можно мне приготовить стол, отец мой? У меня есть вино. У меня есть хлеб.
— Я отслужу мессу, когда начнет светать. Я должен подготовиться сам, Марта, а это дольше, чем накрыть на стол.
— Позволь мне убить его, пока ты будешь молиться, — сказал Акуино. — Делай свое дело и предоставь мне делать мое.
— Я думал, твое дело — писать стихи, — сказал доктор Пларр.
— Все мои стихи были о смерти, так что по этой части я знаток.
— Чего дальше тянуть, это же бессмыслица, — сказал Пабло. — Прости меня, отец мой, но Диего правильно поступил, когда пытался спастись. С ума надо сойти, чтобы убить одного человека, если за это наверняка убьют пятерых. Отец мой…
— Давайте голосовать, — нетерпеливо перебил его Акуино. — Решим голосованием.
— Ты уверовал в парламентскую систему, Акуино? — спросил доктор Пларр.
— Не говори о том, чего не знаешь, доктор. Троцкий считал, что споры можно разрешить голосованием.
— Я голосую за то, чтобы сдаться, — сказал Пабло. Он закрыл лицо руками. Плечи его дрожали, видно было, что он плачет. Кого он оплакивал? Себя? Мертвых? Или плакал от стыда?
Доктор Пларр подумал: головорезы! Вот как их окрестят газеты. Поэт-неудачник, отлученный от церкви священник, набожная женщина, человек, который плачет. Господи, пусть эта комедия кончится как комедия. Никто из нас не рожден для трагедии.
— Я люблю этот дом, — сказал Пабло. — Когда умерли мои жена и ребенок, у меня не осталось ничего, кроме этого дома.
Вот и еще один отец, сказал себе доктор Пларр, прямо спасу нет от отцов!
— Я голосую за то, чтобы убить Фортнума сейчас же, — заявил Акуино.
— Ты же сказал, что они берут нас на пушку, — сказал отец Ривас. — Может, ты и прав. Допустим, что вот уже восемь часов, а мы так ничего и не сделали, — они все равно не смогут на нас напасть. Пока он жив.
— Тогда за что же ты голосуешь? — спросил Акуино.
— За отсрочку. Мы же назначили срок — он истекает завтра в полночь.
— А ты, Марта?
— Я голосую, как мой муж, — гордо ответила она.
Громкоговоритель — его было слышно так хорошо, что он, вероятно, был установлен тут же между деревьями, — заговорил с ними, как и прежде, голосом Переса:
— Правительство Соединенных Штатов и британское правительство отказались посредничать в этом деле. Если вы слушали радио, вы знаете, что я говорю правду. Ваш шантаж не удался. Вы ничего не выиграете, продолжая задерживать консула. Если хотите спасти себе жизнь, выпустите его из хижины до восьми ноль-ноль.
— Они чересчур настойчивы, — сказал отец Ривас.
Кто-то шептался рядом с микрофоном. Слова были неразборчивыми — они звучали, как шелест гальки при откате волны. Потом Перес продолжал:
— У вашего порога лежит умирающий. Выпустите сейчас же к нам консула, и мы постараемся спасти вашего друга. Неужели вы обречете одного из ваших товарищей на медленную смерть?
Даже клятва Гиппократа не обязывает идти на самоубийство, сказал себе доктор Пларр. Когда он был ребенком, отец читал ему о героях, о спасении раненых под огнем, о том, как капитан Отс [255] уходит из палатки в метель. «Стреляйте, хоть я и стара, коль так велит вам долг» [256] — в те дни это было одним из его любимых стихотворений.
Он вышел в соседнюю комнату. В темноте ничего нельзя было разглядеть. Он прошептал:
— Вы не спите?
— Нет.
— Как ваша лодыжка?
— Ничего.
— Я принесу свечу и сменю повязку.
— Не надо.
— Солдаты нас окружили, — сказал доктор Пларр. — Не теряйте надежду.
— Надежду на что?
— Только один из них действительно хочет вашей смерти.
— Да? — равнодушно откликнулся голос из темноты.
— Акуино.
— И вы, — сказал Чарли Фортнум, — вы! Вы тоже ее хотите.
— Чего ради?
— Вы слишком громко разговариваете, Пларр. Не думаю, чтобы вы так громко говорили в поместье, даже когда я был в поле, за милю оттуда. Вы всегда были чертовски осторожны — боялись, чтобы не услышали слуги. Но наступает минута, когда даже у мужа открываются уши. — В темноте послышался шорох, словно он пробовал приподняться. — Я ведь думал, Пларр, что у врачей должен быть кодекс чести, но это, конечно, чисто английское представление, а вы ведь только наполовину англичанин, ну а другая половина…
— Не знаю, что вы подслушали, — сказал доктор Пларр. — Вы либо неправильно поняли, либо вам что-то приснилось.
— Наверно, вы думали, какое, черт побери, это имеет значение, она ведь всего только проститутка из дома матушки Санчес? Сколько она вам стоила? Что вы ей подарили, Пларр?
— Если хотите знать, — вспыхнув от злости, сказал доктор Пларр, — я подарил ей солнечные очки от Грубера.
— Те самые очки? Она их очень берегла. Считала шикарными, ну вот, а теперь ваши друзья разбили их вдребезги. Какая вы свинья, Пларр. Ведь это все равно что изнасиловать ребенка.
— Ну, положим, это было куда легче.
Доктор Пларр не сообразил, что стоит рядом с гробом. И не заметил в темноте, что на него занесли кулак. Удар пришелся по шее и заставил поперхнуться. Доктор Пларр отступил и услышал, как заскрипел гроб.
— Боже мой, — сказал Чарли Фортнум, — я опрокинул бутылку. — И добавил: — А там еще оставалась целая норма. Я берег ее для…
Рука зашарила по полу, дотронулась до туфли доктора Пларра и отдернулась.
— Я принесу свечу.
— Ну нет, не надо. Не хочу больше видеть вашу подлую рожу.
— Вы смотрите на такие вещи слишком серьезно. Все ведь в жизни бывает, Фортнум.
— Вы даже не делаете вид, что ее любите.