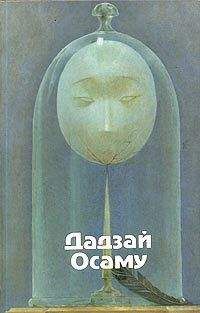Осаму Дадзай - Исповедь «неплноценного» чловека
— Ну, скажешь... Антоним к «преступлению» — «добро». «Добропорядочный гражданин». Как я.
— Шутки в сторону. «Добро» — антоним к «злу», а не к преступлению», «прегрешению».
— А что, «зло» и «преступление» — не равноценные понятия?
— Думаю, нет. Понятия добра и зла — выдумка людей. Как н понятие «нравственность».
— Надоел... Тогда... Нет, давай все-таки про Бога теперь. Бог. Все упирается в Бога, и здесь двусмысленностей быть не может. ...Жрать хочется.
— Ёсико внизу готовит конские бобы.
— А, хорошо, я их люблю.
Хорики лежал на спине, положив под голову руки.
— Тебя, видно, тема «преступления» совсем не волнует, — не удержался я.
— Само собой. Я ведь не преступник, как ты. Хоть и развратничаю, но женщин не гублю и денег у них не вымогаю.
Но ведь и я не губил никого! И денег не вымогал!
Слабое и одновременно отчаянное сопротивление начало было разрастаться во мне, но — о мой скверный характер! — я моментально перестроился: да, действительно, я подлый человек.
Почему-то я совершенно лишен способности открыто сопротивляться... Паршивое сакэ подействовало на меня угнетающе, и я ощущал, как с каждым мгновением подавленность растет; тогда, пытаясь совладать с собой, я заговорил, обращаясь больше к самому себе, чем к собеседнику:
— Но ведь быть посаженным в тюрьму — еще не значит быть преступником... Мне кажется, если знаешь антоним к слову «преступник», то сумеешь ухватиться и за сущность самого понятия. Бог... Спасение... Любовь... Свет... Есть «Бог», и к нему есть «сатана», для «спасения» антоним — «мучения», возможны пары: «любовь» — «ненависть», «свет» — «тьма», «добро» — «зло»... Но: «преступление», «прегрешение» — «молитва»; «преступление» — ...Хотя нет... Все это — синонимы. А что же антоним?
— А вот еще пара к слову «преступление»: «мед»10. Ведь оно сладко как мед... Ну, ладно, кончаем. Жрать хочется. Принеси чего-нибудь.
— Можешь и сам пойти принести! — Наверное, впервые в жизни в моем голосе открыто прозвучала злость.
— Ладно, пойду. И совершим внизу вместе с Ёси-тян «преступление». Говорить — хорошо, а действовать лучше. Значит, так, антоним к слову «преступление» — «медовые бобы», ой нет, «конские бобы»...
Хорики был пьян настолько, что языком еле ворочал.
— Делай, что хочешь, только убирайся.
— «Преступление» и «голод», «голод» и... «конские бобы»... А, нет, это синонимы... — Лопоча какую-то белиберду, Хорики пошел вниз.
«Преступление и наказание», Достоевский. Молниеносно в подсознании всплыло название романа. А что, если господин Достоевский поставил эти слова не в синонимическом ряду, а в антонимическом? Это понятия абсолютно разные, они несовместимы как лед и пламень. Скорее всего, Достоевский воспринимал эти слова как антонимы... Словно спутанные зеленые водоросли, словно затянутый тиной пруд, хаотичен он в своей глубине... Да, кажется, я начинаю что-то понимать... А впрочем... Как в калейдоскопе, мелькали в голове какие-то мысли. И вдруг появляется Хорики, взбудораженный, не своим голосом кричит:
— Ну-ка, иди погляди. Погляди на конские бобы! Ну, скорее!
Хорики только что, минуты еще не прошло, спустился вниз,
но тут же прибежал назад.
— Ну, что там? — спросил я.
Мы ошалело бросились с крыши на второй этаж, оттуда вниз, к моей комнате, и по дороге, на лестнице, Хорики приостановился и прошептал, указывая на комнату:
— Гляди туда.
Через открытую форточку просматривалась вся комната. В ней, даже света не погасив, копошились двое... животных.
В глазах почернело, закружилась голова. «Вот они, люди, вот они каковы, люди... Надо ли чему-нибудь удивляться?», — тяжело дыша, без конца повторял я мысленно, не в силах сдвинуться с места, забыв, что должен выручать Ёсико.
Хорики громко кашлянул.
Мне не хотелось никого видеть, я побежал на крышу, бросился на пол, уперся взглядом в дождливое ночное небо; мною овладели не гнев, не отвращение, не тоска даже, а жуткий, невыразимый страх — ужасней, чем тот, что навевают привидения на кладбище; обуявший меня ужас напоминал безрассудный трепет предков, когда перед их глазами под храмовыми криптомериями появлялись синтоистские божества в белом.
С той поры я начал седеть, во мне не осталось ни намека на уверенность в себе, мнительность становилась все более жестокой, какие-либо надежды, радости, сочувствие представлялись несбыточными в этом мире.
Это событие стало роковым. Я был ранен настолько сильно, что отныне каждая встреча с кем бы то ни было отзывалась мучительной болью.
— Я тебе, конечно, сочувствую, но ты получил хороший урок. Все, больше ноги моей здесь не будет. Ад какой-то... Ну а Ёси-тян ты уж прости. Сам-то каков... Ну, пока.
И это — болван Хорики, который имел обыкновение подолгу торчать там, где ему делать нечего?
Я выпил еще, потом заплакал — горько, навзрыд; плакал долго и хотелось плакать бесконечно.
Спустя какое-то время я почувствовал, что сзади стоит Ёсико. Она держала блюдо с бобами, вид у нее был совершенно отрешенный.
— Он говорил, ничего не будет делать со мной...
— Ладно. Молчи. Ты никогда не могла помыслить о ком-либо плохо. Садись, ешь бобы.
Мы сидели рядом и молча ели.
О-о! Неужели и доверчивость — преступление?
Изнасиловавший Ёсико тридцатилетний коротыш уже бывал у нас прежде, заказывал комиксы; несносный коммерсант, с каким высокомерием он кидал мне за работу жалкие гроши!.. Как и следовало ожидать, с того дня он больше не появлялся в нашем доме.
Не могу объяснить почему, но в ту бессонную ночь, да и потом я яростно стонал, будучи зол не столько на этого самца, сколько на Хорики, который не удосужился кашлянуть сразу в тот момент, когда увидел эту гнусную картину, зато не поленился специально подняться за мной на крышу, дабы и мне показать ее.
Прощать, не прощать — какая разница? Ёсико — доверчивый зверек, просто-таки талант в своем роде. Она всегда всем безоговорочно доверялась. И в этом ее трагедия.
Бога вопрошаю: доверие — преступно?!
Долго мою душу терзало не само надругательство над Ёсико, а то, что поругана ее доверчивость, — терзало так, что жить было тошно. Меня, безобразно пугливого, заглядывающего и глаза каждому встречному для того, чтобы уловить его настроение, меня, напрочь потерявшего способность верить людям, — меня незамутненная доверчивость Ёсико освежала, как брызги водопада Вакаба. И вот одна ночь сделала ее настоящей помойкой. С того вечера Ёсико стала как-то болезненно реагировать на мое настроение. Стоило мне окликнуть ее, как она вздрагивала, не знала, куда девать глаза. Я пытался ее рассмешить, паясничал перед ней, но она только трепетала от страха и все старалась быть как можно предупредительней.
Да неужели же светлая доверчивость — источник прегрешений?
Я начал копаться в книгах, повествовавших о надругательствах над замужними женщинами, но нигде не вычитал о происшествии более диком, чем то, что произошло с Ёсико. Если бы хоть какое-то чувство связывало ее и того коммерсанта, что-то вроде любви, — я, как это ни парадоксально, легче перенес бы беду; но была только летняя ночь и была доверчивость Ёсико. И вот — такой удар в самое чувствительное место. Я выплакал голос, поседел; Ёсико отныне всю жизнь была вынуждена бояться меня.
Во всех книгах главное — простит муж измену жены, или нет; мне же эта проблема не казалась столь важной. Ах, как счастливы мужья, обладающие правом прощать или не прощать! Не можешь простить — не велика беда, тихо оставь жену и найди другую; а не хочешь — можно и притерпеться, простить. Во всяком случае, такой муж способен найти кучу вариантов, чтобы все полюбовно уладить. Хотя, безусловно, для любого мужчины это страшный шок, но он не бесконечен, как, скажем, морские приливы и отливы. Муж, имеющий права, какое-то время пребудет в гневе праведном, но в конце концов справится с бедой. Но не так в моем случае: у меня ведь нет никаких прав, ведь как ни рассуждай — виноват прежде всего я сам. Так вправе ли я гневаться на Ёсико? Даже упрека высказать не могу; поругана она лишь потому, что обладает редким прекрасным качеством, о котором я сам всю жизнь страстно мечтал, которого с детских лет жаждал, — кристально чистой доверчивостью к людям...
Так неужели кристальная доверчивость преступна?
Если ценность того единственного, к чему я стремился, сомнительна,— что же я могу понять в этом мире? Чего желать? Или нет ничего, кроме алкоголя? С утра я наливался дешевым сакэ, выглядеть стал жалко, зубы попортились и выпали; работа тоже шла плохо: мои комиксы походили более на непристойные рисунки. А если быть откровеннее — я просто стал делать копии порнографических рисунков и тайком сбывать их: нужны были деньги для сакэ. Когда передо мной оказывалась Ёсико, когда она виновато отводила глаза, мой мозг сверлила одна мысль, которую я не мог прогнать: эта баба ведь совсем не способна за себя постоять, может, коммерсант насиловал ее не однажды? А может, и Хорики тоже? И еще кто-нибудь, кого я совсем не знаю? Одно сомнение рождало другое, но смелости разрешить их, прямо поговорив с Ёсико, тоже не было. Опять беспокойство и страх замучили меня, и я, чтобы забыться, пил. Порой робко, замирая от ужаса, пытался выведать какие-нибудь подробности. В душе одни переживания сменялись другими, но внешне я, как когда-то, дурачился, ласкал Ёсико (то были отвратительные, адовы ласки), после чего погружался в сон, как в грязь.