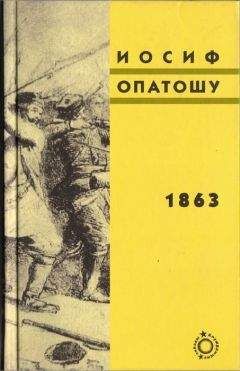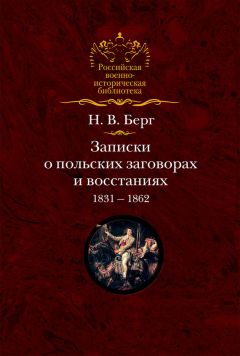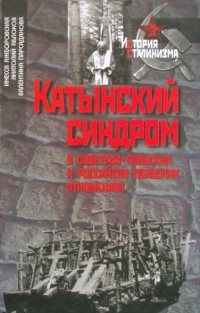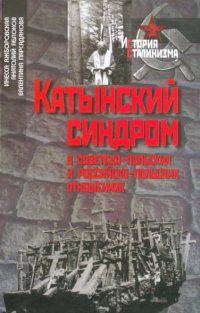Иосиф Опатошу - В польских лесах
— Брайна, не стану грешить, — Двойреле положила руку на сердце, — Мордхе едет к ребе, но поверь, душа болит день и ночь. Я уже сейчас чувствую, как мне чего-то недостает в доме!
— Как же мне не верить вам, хозяйка! Даже я хожу сама не своя. Конечно, вы — мать! Но огорчаться не надо: мы еще, с Божьей помощью, доживем до великой радости. Вот увидите!
— Дай Господи! — Двойреле вытерла глаза, взяла в руки жилетку Мордхе и показала Брайне. — Видишь, я здесь зашила ему пять империалов. На чужбине он, вероятно, будет ограничен в деньгах, а просить у матери тоже не захочет. Так пусть они лежат у него! Ему приятно будет, он почувствует тогда, что такое мать. Эту жилетку он носит ежедневно. Что ты скажешь, а?
— Откуда мне знать? — пожала Брайна плечами. — Лучше сказать ему, мало ли что… Ох, заговорилась я… Посмотрю, что с печеньем!
— Я сама посмотрю печенье, — вздохнула Двойреле, — а ты, Брайна, перевяжи чемодан и открой ставни: пора Мордхе вставать.
Брайна отворила ставни. Волна света залила комнату, ослепив на мгновение служанку и разбудив Мордхе.
* * *Мордхе почти не попрощался с матерью. Она все время стояла на веранде, заломив руки, и плакала. Многое хотела она сказать сыну, но, когда он подошел, поцеловал ее руку и сказал: «Будь здорова, мама!» — Двойреле еще сильнее разрыдалась, обняла его и, забыв про напутствия, не отпускала.
— Пора положить этому конец! — Авром со злостью вырвал Мордхе из материнских объятий. — Он же не уходит в солдаты! Если ты теперь так плачешь, что ты будешь делать, когда он женится? Баба всегда остается бабой!
Он взял Мордхе под руку, отвел в сторону и протянул ему руку:
— Поезжай с Богом, Мордхе, будь счастлив! Если тебе понадобятся деньги, возьми у нашего свояка, реб Йосла. Он даст тебе. А главное, смотри же, пиши!
Отец с сыном глянули друг на друга, и каждый почувствовал, что нужно сказать что-то еще. Оба вдруг опустили глаза, словно угадывая мысли друг друга, и молча, недовольные тем, что чего-то не договорили, разошлись.
Мордхе, расстроенный, попрощался с Брайной, с несколькими рыбаками, стремясь поскорее сесть в бричку. Филут путался у него под ногами, словно тоже пришел прощаться. Мордхе сжал ладонью его морду, приласкал, чувствуя, что ему самому вовсе не хочется уезжать, и, если бы отец или мать хоть словом остановили его, он, наверно, остался бы дома.
В конце концов он сел в бричку, где уже сидел реб Иче, и Мартын потихоньку тронул лошадей.
Мордхе слышал, как кричат ему вслед, видел, как рыбаки снимают шапки, Филут несется с лаем; кто-то из рыбаков поймал его и удержал за уши.
Брайна одной рукой ухватилась за бричку, другой махала Мартыну, чтобы ехал медленнее, а сама, идя рядом, объясняла Мордхе, в каком мешке лежит мясо, в каком — пирог. Потом принялась наказывать, чтобы он не выбрасывал мешки, а отсылал домой, чтобы часто писал и не доставлял огорчений матери, потому что таких матерей на свете немного… Потом сказала, что зашила ему в жилетку пять империалов, и, когда он в пятницу переменит белье, пусть непременно положит грязное в наволочку с прошивками, потому что на такое белье немало найдется охотников: это ведь чистое льняное полотно!
Когда Мартын подъехал к каменной ограде, Брайна вытащила из-за пазухи полотняный мешочек и, покраснев, сунула Мордхе в руку:
— На, Мордхеле, на чужбине пригодится тебе хоть на орехи. Прошу тебя, не откажи мне! Всего десять польских злотых… Что ты так смотришь на меня? Ты, ей-Богу, возьмешь это! Ну, спрячь, спрячь! Я это, с Божьей помощью, взыщу с тебя с процентами!.. Поезжай с Богом, дай Бог тебе счастливого пути!.. — И она повернулась к реб Иче: — Извините, реб Иче, может быть, я недостаточно заботилась о вас, простите меня, поезжайте на здоровье и следите непременно за Мордхе…
— Хорошо, хорошо, будьте здоровы, Брайна! — успокоил ее реб Иче.
Брайна отпустила бричку, хотела снова схватить, но бричка тем временем успела отъехать, и она осталась стоять с протянутыми руками, крича вслед:
— Дай Бог здоровья!
— Славная женщина! — как бы про себя произнес Мордхе. Он повернулся к реб Иче и, чувствуя, что слезы его душат, умолк.
Потом он смотрел, как лошади, задрав хвосты, подымаются в гору и бричка несется по широкой дороге, ведущей от дома к лесу, с таким грохотом, будто вот-вот треснут рессоры.
Солнце стояло уже высоко, сильно грело и сулило жаркий день. Воздух был прозрачно-синий, синева слепила глаза; казалось, деревья и кусты сами перемещаются с места на место. Изредка вдали вспыхивали огненные искры. Это Висла играла, смеялась, загоралась зеленым, красным и синим светом, шевелилась, словно жидкое серебро, перевитое обрывками радуги.
Мартын свернул на песчаную дорогу, перерезавшую шоссе, снял шапку перед изваянием из камня, перекрестился и свистнул:
— Ну, обжоры!
Лошади рванули бричку, живо побежали по песчаной дороге, усеянной листьями и ветками, изредка ржали, хлеща себя длинными хвостами по округлым блестящим бокам.
Мордхе знал, что они будут проезжать мимо дома Рохеле, и, хотя был уверен, что ее там действительно нет, по мере приближения чувствовал, что начинает задыхаться, а его колени дрожат… Он решил не смотреть, закрыть глаза, но против воли все-таки взглянул в ту сторону.
Вокруг дома стояла тишина. Окна были закрыты, и, если б не куры, которые убежали с дороги, где купались в горячем песке, и не сырки, сушившиеся в мешочках на подоконнике и прижатые тяжелыми камнями, можно было подумать, что в доме никто не живет.
Тень какого-то человека промелькнула мимо хлева и, прежде чем Мордхе успел всмотреться, исчезла. Пристально вглядевшись, Мордхе заметил у хлева арендатора, который будто прятался от него, и почувствовал себя как человек, которому плюнули в лицо. Он прикусил губу и подумал: кто знает, может, Рохеле уже вернулась, лежит запертая в своей комнате, плачет и ждет, чтобы он за ней приехал… Он ведь клялся, обещал ей… вот здесь, у этого окна… Кажется, выглядывает кто-то… Рохеле? Он почувствовал, как кровь ударила ему в голову. Кажется, его зовут, окликают? Стоит ему лишь протянуть руку, и Рохеле будет с ним: нужно только произнести слово — и Мартын остановится. Кто ему зажимает рот? Кто держит его за руку? Рохеле! Рохеле! Он кричит, взывает ко всем, и никто не слышит, будто все оглохли…
Мордхе чувствовал, что сердце его кровоточит, и он бы расплакался, если бы не стыдился реб Иче. Но это длилось недолго. Все вокруг тихо пело, дышало жизнью, а Мордхе был молод, и достаточно было стае мошек облепить его лицо, как он уже забылся, зажмурил глаза, спрятался от мошек и увидел во сне, как выходит Рохеле с черными волосами, усыпанная белыми цветочками. Она смотрит на него своими огромными глазами… Он не мог больше усидеть в бричке и соскочил, ощущая ее волосы, ее тело…
— Стыдись, ты так долго заставил меня ждать!.. Все в доме меня дразнили, говорили, что ты никогда не придешь… Я так плакала… Видишь, как покраснели мои глаза? Уйди, ты злой!..
Мордхе вздрогнул и открыл глаза. Мартын остановил лошадей. С луга бежал Вацек, босой, без шапки. Он щелкал кнутом. Впереди с лаем мчался слепой на один глаз Бурек.
Вацек не знал, что ему делать. Поцеловать руку паныча он не решался — все-таки они вместе росли и играли. Что сказать, он тоже не знал и стоял, глупо ухмыляясь.
— Чего ты стал, как столб, как корова? — выругался отец. — Растет дикарем, точно зверь, человека в глаза не видит, не умеет рта открыть. Чего ты стоишь, чего? Доить будут корову, не тебя! Поцелуй паныча и ступай к коровам. Да посмотри, где красная!..
Мордхе не позволил поцеловать себе руку, дал Вацеку денег, нагнулся из брички, хлопнул его по плечу, они невольно поцеловались, и оба сильно сконфузились при этом.
Мартын погнал лошадей, угостил кнутом красную корову, которая стояла посреди дороги; Бурек понесся с лаем обратно на луг.
Дорога была пустынна и тянулась далеко посреди темных лесов. Лошади, попав в лес, заржали так, будто напились ключевой воды. Сильнее хлестали хвостами по бокам и неслись, вздымая копытами глыбы черной земли, поросшей мхом. Стало прохладнее. По обеим сторонам дороги стоял старый, густой лес. Деревья так разрослись, что ветви с обеих сторон касались друг друга, не пропуская солнце, и сплетались, образуя зеленый свод над дорогой. Солнце местами все-таки пробивалось, и в глубине леса мошки плыли серебристым облаком, поднимаясь высоко над деревьями.
Было тихо, прохладно. Топот лошадей становился отчетливее, сырая земля хлюпала под ударами копыт, как хорошо вымешанное тесто. Изредка слышен был крик птицы, и из глубины леса неслось тихое жужжание. Оно мешало думать, от него гудело в ушах, словно в морских раковинах.
Мартына тишина усыпляла. Он опустил вожжи и закачался на козлах. В гору лошади шли медленнее. Сквозь дремоту Мартын почувствовал, что лошади еле плетутся, привычно хлестнул их кнутом по головам, проворчал: «Ну, обжоры!» — и опять закачался.