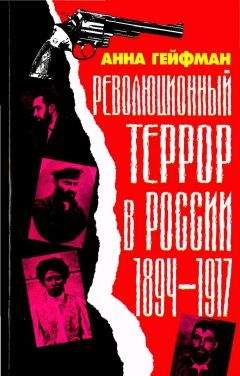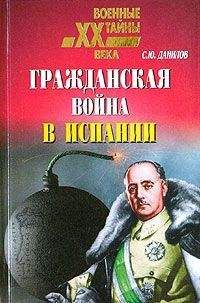Эльза Триоле - Анна-Мария
Я прижалась лбом к стене. Раймонда вихрем пронеслась мимо меня, и издали, из спальни Женни донесся ее крик:
— Убийцы! Убийцы! Убийцы! Все — убийцы! Все!
Непрерывный крик, словно автомобильный гудок, у которого замкнулись провода:
— Убийцы!
Прижавшись лбом к стене, я плакала. За моей спиной послышался голос Альвареса: «Мадам, что случилось, мадам?..»
Часть вторая
Я прекрасно понимаю: все, что произошло потом, не имело к смерти Женни никакого отношения… Тем не менее для меня именно выстрел Женни и дал старт всем бедам. Случалось ли вам ночью, в комнате с закрытыми ставнями вдруг в паническом страхе спросить себя: «Уж не ослепла ли я?..» Скорей, скорей зажечь свет!.. Но в кромешной тьме этой ночи зажигать было нечего, и я даже не задавала себе вопроса, ослепла ли я или весь мир погрузился во мрак.
Сентябрь 1939 года. Никаких известий о семье. Я совершенно растерялась — как быть, что делать?.. Пожалуй, детям лучше не приезжать во Францию до конца войны, а с другой стороны, поездка на Острова стоит так дорого, что нечего и мечтать о возвращении туда, пока не станет ясно, как все обернется. Я отказалась от квартиры, которую наконец подыскала: будущее представлялось мне слишком неопределенным, деньги были на исходе. Обзаводиться сейчас хозяйством было бы бессмысленно. Впрочем, все на свете потеряло смысл, осталось одно безумие, бред.
Я спросила у Марии, не может ли она приютить меня на некоторое время, хотя бы на несколько дней. Но она дала мне понять, что ее это стеснит, ведь она живет не одна. Женни, безусловно, не знала, что Мария живет не одна, странно, неужели Мария никогда с ней об этом не говорила… Жако предложил мне поселиться у него, он мог бы переехать к матери, но я с ужасом вспомнила о стеклянном фонаре над пропастью, о женщине, бросившейся в эту пропасть, и, поблагодарив, отказалась. Через несколько дней Жако призвали в армию.
Без него стало еще грустнее.
Я поселилась в гостинице. Мне пришлось уже взять взаймы у тетушки Жозефины тысячу франков, когда однажды утром пришла Мария с известием, что вскрыли завещание Женни и что она оставила мне целое состояние, a кроме того все свои драгоценности и пожизненную ренту (на случай, если я позволю себя обмануть или ограбить, — так было оговорено в завещании). Я завтракала, сидя в постели, а Мария, в Женнином котиковом манто и зеленом костюме, который так шел к Женни, смотрела, как я рыдаю над чашкой кофе с молоком. Розовощекая, упитанная, живая, во всем Женнином с головы до ног, она заговорила теперь о своей помолвке. Можно подумать, что Мария только и ждала смерти Женни, чтобы выйти замуж, что эта смерть развязала ей руки. Мария выйдет замуж, я буду жить в роскоши, и все это ценою вечной разлуки с Женни…
— Поздравляю вас, — сказала я, — кто ваш жених?
— Его фамилия З. Он журналист.
Имя это было для меня пустым звуком.
— Мы обвенчаемся только после окончания войны. Жених мой призван в армию, он получил назначение в Отдел пропаганды гостиницы Континенталь… Если вам нужен секретарь, Анна-Мария, у меня, как вам известно, большой опыт в этом деле.
— На что мне секретарь? — искренне удивилась я.
— У вас теперь много денег, их надо уметь распределить…
— Ну уж как-нибудь распределятся сами собой…
Мария не настаивала и посвятила меня в свои планы на будущее: «Пока у меня нет детей, буду работать. Хоть война эта и не страшная, но все же лучше дождаться конца и тогда строить семью, заводить детей». Уже в дверях она воскликнула: «Да, чуть не забыла сообщить вам забавную новость: знаете, на похороны Женни Рауль Леже пришел с женой. Он не посмел признаться Женни, что женат… Впрочем, никому из нас тоже. А она недурна — настоящая императрица и не без обаяния… но явная дура!» Я не была на похоронах Женни, и мне не пришлось тогда посмеяться над этой сногсшибательной новостью. Поэтому я посмеялась теперь…
Все друзья были призваны в армию. Остальные эвакуировались, одни уехали в провинцию, другие в свои имения и загородные дома. У меня нет никаких вестей с Островов. Воспоминания о Лилетте и Жорже слились с воспоминаниями о Женни: я в разлуке со всеми тремя. И разлука эта меня убивает.
Наступил май 1940, а я по-прежнему жила в той же гостинице. Июнь 1940 — я все там же. На моих глазах Париж опустел, потом его затянуло неумолимой плесенью, под которой городу пришлось гнить целых четыре года.
Время остановилось, не было больше ни дней, ни месяцев… Я ни с кем не встречалась и совсем одичала. Жако был в плену. Актер из Комеди Франсез — в плену. Рауль Леже — в плену. Остальные — в свободной зоне. Я виделась иногда с тетушкой Жозефиной, вернувшейся в Париж. Ходила одна в театр, в кино. Фильм «Жанна д’Арк» с Женни в заглавной роли был запрещен еще до выхода на экран. Я твердила себе, что я в тюрьме, ведь я не могла выехать из Франции, а семья моя не могла приехать ко мне. Вот уже два года, как я ничего не знаю о детях.
В конце 1941 года я покинула Париж. Эти два парижских года были самыми тяжелыми в моей жизни. Я призвала на помощь присущее мне благоразумие, которое помогало мне мириться с неизбежностью, помогало нести свой крест и улыбаться, как улыбается акробат во время исполнения опасного номера: все то же пресловутое чувство собственного достоинства, так раздражавшее Женни. Из чувства собственного достоинства я вставала каждый день в восемь часов, тщательно умывалась, хотя гостиницу не отапливали, выходила на улицу, что-то ела… Я старалась относиться к присутствию немцев, как к чему-то естественному: раз мы проиграли войну, — значит, они находятся здесь по праву. Подписывая перемирие, маршал Петен знал, что делает, и не нам его судить. Политика, война — дело не женское.
Зачем бежать из Парижа? Все равно детей теперь я не увижу, Женни не верну… вот почему мне даже в голову не приходило, что нужно куда-то уезжать. Но в ноябре 1941 года, возле Морского министерства я встретила мадам Дуайен, с которой когда-то познакомилась у Женни, на одном из ее многолюдных вечеров. Мы поздоровались и так и застыли друг против друга. Мадам Дуайен — статная белокурая женщина, в каракулевом манто и нелепой шляпке… И вдруг мы обе расплакались. Миг жестокой прозорливости, почти ясновидения. Она взяла меня под руку, и мы, пройдя немного по улице Ройяль, зашли в кондитерскую.
Мы почти не знали друг друга. Не знали? Так ли уж это важно в наши дни? Когда в дом вторгаются чужие, отношения между членами семьи как-то странно упрощаются. У каждой семьи свои тайны; люди, которые вместе росли, понимают друг друга с полуслова… «Поезжайте ко мне в именье, — шептала мадам Дуайен, — вы будете там одна. Я не могу оставить Париж, у меня муж, дети… но вам там будет хорошо. Смотрите, какой дождь, скоро наступят холода, а топить здесь нечем! Мадам Белланже, во имя нашей дружбы с Женни, примите мое предложение… Один мой знакомый, врач, как раз едет на машине в ту сторону. Не отказывайте мне, ведь на моем месте вы поступили бы точно так же». Я обрадовалась ее настойчивости. Мы обнялись под сенью свастики, водруженной на крыше гостиницы Крийон.
Хотя мотор подозрительно постукивал, выбрасывая густые клубы дыма, который отравлял воздух и разъедал мне глаза, машина неслась с бешеной скоростью. Передо мной маячила спина доктора в потертой кожаной куртке, его баскский берет и черные, прямые, слишком длинные волосы. Я была буквально втиснута в груду тюков и ящиков: весь этот багаж увозил с собой доктор. Мы останавливались только затем, чтобы заправиться бензином, да еще когда жандармы требовали документы. Я съела всухомятку сандвич, а доктор, по-моему, и вовсе ничего не ел. Время от времени он поворачивал ко мне нечисто, видимо наспех, выбритое лицо и спрашивал: «Ну как?» Под вечер он осведомился, в состоянии ли я продолжать путь: лучше помучаться и добраться сегодня же, сказал он, чем ночевать в теперешних гостиницах, где даже воды нет.
Было, вероятно, уже часов десять, когда доктор, не поворачивая головы, бросил: «Приехали». И машина тут же затормозила. Ночь стояла темная, едва проступали неясные силуэты деревьев и черная громада дома. Доктор открыл ворота, рука моя коснулась холодного мокрого железа… Пока мы пересекали то, что днем, наверное, было садом, мой спутник наконец счел нужным объяснить мне: «Мадам Дуайен просила отвезти вас сначала сюда, к аббату Клеману; она написала ему, чтобы предупредили слуг в замке…» Он постучал в дверь.
Как светло и уютно было в этой пустоватой комнате, обставленной старинной полированной мебелью. Аббат — болтун и непоседа, объяснял, что нас ждали не раньше завтрашнего утра, — но мы правильно поступили, что проделали весь путь за один день: очень, очень плохо сейчас на дорогах, прямо сказать — небезопасно. И он так многозначительно подмигнул, что даже стекла его очков сверкнули. «Садитесь, садитесь, мадам, вы, верно, устали с дороги! Мартина, куда ж вы запропастились, горе вы мое? Соберите быстро легкий ужин. Приехал майор с приятельницей мадам Дуайен!» Доктор, он же майор, с широкой улыбкой наблюдал за суетившимся аббатом; никогда бы не подумала, что он способен так улыбаться…