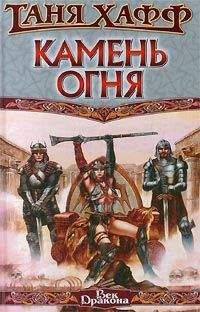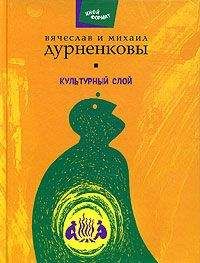Кальман Миксат - Черный город
— Так что же ты собираешься делать? — полюбопытствовал Пал.
— Пока ничего. Вернее, пока я хочу вот скинуть с себя эту-бекешу подручного мельника. Найдется у тебя какое-нибудь платье для меня?
— Нет; этого я не позволю тебе сделать! — запротестовала госпожа Гёргей. — Ты вернешься со мною в Топорц в таком виде, как сейчас. Пусть все дворовые посмотрят, что за мельник ходил ко мне по ночам.
— Мария права. А потому никакого платья я тебе не дам. Зато дам совет: не впутывайся ты больше в подобные дела, ведь сколько веревочке не виться, а кончику быть.
— Вы чистую правду говорите, деверь! Словно в моем сердце читаете.
— Стойкости недостает нынешнему поколению, — продолжал Пал. — Начинать с ним великие дела можно, а довести их до конца нельзя. Потому и тщетны все ваши усилия.
— Я и сам это вижу, — сказал со вздохом Янош, и каждое его слово было проникнуто горечью. — Но за меня не бойтесь: я перебесился и успокоился. Теперь и шестеркой волов не вытянуть меня со двора.
— Э, нет! — запротестовал вице-губернатор. — Погоди, сейчас я отвечу.
С этими словами Пал Гёргей удалился в кабинет, а возвратись четверть часа спустя, протянул Яношу исписанный лист бумаги. Янош, держа письмо далеко от глаз (должно быть, у него зрение начало слабеть), пробежал первые строки.
— Так ведь бумага адресована не мне, а губернатору графу Чаки! О чем ты пишешь?
— Заявляю о своей отставке с поста вице-губернатора. Ты вернулся, и я возвращаю тебе твою должность. Я только временно замещал тебя.
Янош Гёргей прочитал заявление до конца, а затем разорвал его на несколько частей.
— Спасибо, брат, но я больше не собираюсь вмешиваться в дела нынешнего мира. Не хватало еще, чтобы я помогал императору выколачивать налоги, закрывать лютеранские церкви и тому подобное. Нет, лучше уж я поселюсь в Топорце и буду вести тихую жизнь. Точка.
Мария нежно склонила голову на его плечо.
— Да благословит господь твое намерение, милый мой супруг. Аминь! — благодарно и ласково промолвила она.
— И что же ты собираешься делать в Топорце? — допытывался у брата Пал Гёргей.
— Сажать деревья.
— На это уйдет один день в году.
— Уничтожать на них гусениц.
— Еще несколько дней. А остальные триста? Чем ты заполнишь их?
— Буду ждать, — задумчиво проговорил Янош, — пока подрастет мальчик.
— О, мальчик наш быстро растет! — вставила Мария Гёргей. — Я совсем забыла сказать тебе, что как раз в пятницу, когда тебя схватили, я получила от него письмо.
— Письмо? — удивился Янош Гёргей. — О каком мальчике ты говоришь?
— О каком же еще — о нашем Дюри, конечно! Пишет, что оба костюма ему уже малы. Я думаю, не купить ли нам в Лёче несколько локтей сукна для мальчика. Оно здесь кстати и дешевле, чем у нас в Кешмарке.
— Ах, да! Конечно, — сообразил Янош, и в голосе его зазвучали нотки отцовской нежности. — Ты все о Дюри думаешь. А я, глупец, даже и не вспомнил о нем.
— О каком же еще мальчике ты упомянул? Глаза Яноша засверкали.
— О приемном сыне Тёкёли, о маленьком Ракоци![12] Незаметно для брата Пал Гёргей переглянулся с невесткой и сквозь зубы процедил: — Неисправим!
Янош Гёргей, хоть и не сознавался в этом, рад был императорской грамоте о помиловании. Недаром же он вдруг заторопился домой. Сразу же там нашлось у него множество неотложных дел, и Пал Гёргей только головой покачивал: "А что, если бы тебе пришлось отсиживаться у меня всю зиму?"
Марии тоже хотелось поскорее отправиться домой, и вдвоем супруги придумали такую тьму предлогов, что удержать ни того, ни другого было просто невозможно, — сразу же после обеда они укатили.
Когда Янош с женой уже сидели в санках, Пал Гёргей еще раз повторил свое предложение:
— Подумай, брат, и если появится у тебя желание снова сесть в вице-губернаторское кресло, — только знак подай.
— Ах, к черту эти твои планы! — сердито отмахнулся Янош, чтобы за напускным гневом скрыть, как его растрогала заботливость брата. — Вице-губернаторское кресло я сам тебе отдал, можешь его не возвращать. А уж если хочешь сделать нам что-нибудь по-настоящему приятное, верни то, что ты у нас отнял.
— Что именно?
— Нашу маленькую Розалию. Но об этом мы еще поговорим.
— Вашу Розалию? — пробормотал Пал, нахмурив лоб, и сердце его болезненно сжалось.
Санки тронулись, выехали за ворота, а Пал Гёргей, словно окаменев, все еще стоял посреди двора, держа в руках шапку, которую снял, чтобы помахать ею вслед уезжающим, да так и забыл снова надеть, несмотря на лютый холод.
— Значит, все-таки… — проговорил он и тут же схватился за голову, вспомнив слова своего обета: "…вырываю я из души своей сомнение, как занозу из тела". Но удастся ли ему вырвать занозу из души — из больной души, — с такой же легкостью, как из здорового тела?..
После этого дня братья лишь изредка встречались друг с другом. Янош Гёргей не ездил даже на заседания комитетского дворянского собрания, а свой интерес к политике удовлетворял, не выходя за ворота дома. Газет, правда, тогда еще не было, зато были соседи из окрестных поместий. Они-то и привозили политические новости.
Увы, радостного в этих новостях было немного! С падением будайской крепости силы турецкого полумесяца ослабели. Христиане в Венгрии ликовали. Глупцы! Ведь для их страны, самой несчастной изо всех стран на свете, единственной опорой был враг. (Это может случиться лишь с нами, венграми!) Прогнав турок из Буды, наши предки испугались: — Что же теперь с нами будет, без турок-то? До сих пор Вена заигрывала с венграми, потому что боялась, как бы они не ухватились за полы турецкого кафтана, а турки всегда были готовы насолить немцам, Э, что ни говорите, не турки были нужны нам для политики, как хозяйке соль — дли стряпни.
Но если бы только в турках дело (хотя, как я уже сказал, турок был нужен для дома!), а то ведь едва Янош Гёргей пригрелся; в родном гнезде, как пошли слухи, что император не утвердил сына Апафи владетельным князем[13] и якобы сказал при этом: "К чему Трансильвании эти игрушки?"
Значит, не будет больше "малой родины", где прежде венгр всегда мог найти приют, если на "большой родине" ему вдруг приходилось туго,[14] и откуда он всегда мог затем нанести немцу ответный удар. Навязав нам на шею австрийских императоров, господь бог как бы в противовес им сажал беспокойных маленьких князьков на трансильванский трон. А теперь вот их больше не будет. О, император Леопольд знал, что делает! А вот что будем теперь делать мы, венгры, никто не знает.
Наиболее горячие головы (в особенности дворяне вокруг Кешмарка) надеялись: взойдет еще звезда Тёкёли. Но, увы! Счастливая звезда — не восковая свеча, погаснет — снова ее не зажжешь. Да и сам Тёкёли — выжатый лимон, никому он больше не нужен.
Воюющие стороны заключили Карловицкий мир, поделили между собою, что могли, а о Тёкёли в мирном договоре не обмолвились ни словом. Всесильный Маврокордато, к которому Тёкёли, напомнив о своих заслугах в прошлом, обратился с просьбой поддержать его претензии перед великими державами, ответил:
— Прошлое не ворошите, будущее поручите богу, а сами лучше подумайте о настоящем.
Ответ австрийского дипломата облетел все дворянские гнезда — и те, что лепились под драночными кровлями, и те" что защищены были крепостными стенами, и нигде Маврокордато не поминали добрым словом. Вот уж, должно быть, икалось бедняге!
— Сказано это князю Тёкёли, — говорили огорченные дворяне, — но адресовано всем венграм!
Так изо дня в день все глубже погрязала Венгрия в трясине беспомощности. Была у нее конституция,[15] но никто с ней больше не считался. Был наместник — посредник между венгерским народом и императором, но он предпочитал молчать — и в тех случаях когда ему следовало обратиться к народу, и когда надлежало воззвать к императору. Было Государственное собрание, но сидевшие в Вене правители ни о чем его не спрашивали и поступали, как хотели. Бедное Государственное собрание! Подобно кукле, оно могло говорить только, когда его заводили.
В Вене кардинал Колонич уже изложил свою программу; "Сделать Венгрию сначала подневольной, затем нищей и наконец — католической".[16] Однако правители в Вене не были педантами и не слишком строго соблюдали очередность в выполнении пунктов этой программы. Прежде всего они стали обращать венгров-протестантов в католиков, а затем уже в нищих и в рабов.
Хуже всех пришлось протестантам. Было чем возмущаться и Яношу Гёргею. Как к главному покровителю лютеранства, к нему, что ни день, стекались жалобы: то там, то здесь у лютеран отнимали храмы. Однако и католикам было не слаще: правда, отнятые у лютеран церкви передали им, но ведь во главе епархий, монастырей, церковных судов и самых богатых приходов были поставлены не венгры, а иноземцы. Будто стая воронья, с карканьем кружились вокруг Бурга[17] выскочки-попы, подопечные иезуитов, ожидающие теплых местечек в Венгрии. Войско, не получавшее достаточного жалования, позабыв всякую дисциплину, разбилось на банды, и те бродили по стране, грабили народ. Солдаты лишь отчасти придерживались программы Колонича: они делали нищими всех венгров подряд, невзирая на их вероисповедание. Императорский двор, не спрашивая согласия Государственного собрания, придумывал и вводил все новые и новые налоги с комитатов и дворян. Тут уж и наместник не выдержал, — заговорил, но наместнику быстро заткнули рот, пожаловав ему герцогский титул. На суды тоже оказывали давление сверху: судьям намекали, что двору будет приятно, если суд, разбирая тяжбы, станет делать некоторую разницу между сторонами, в зависимости от их политической позиции и религиозных верований. И вот протестанты, даже будучи правыми, могли выиграть процесс, только хорошо заплатив судье. (А если плата была очень высокой, то они могли выиграть тяжбу и не будучи правыми.) Но затем пришлось и католикам, если они хотели добиться правды, давать судьям взятки.