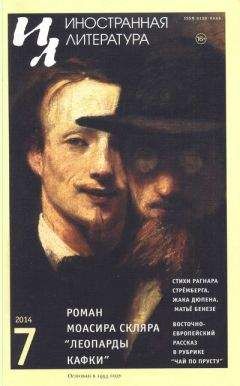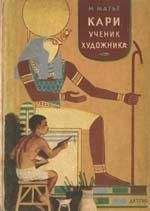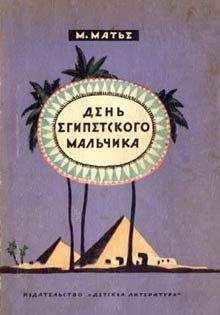Жан-Поль Сартр - Дороги свободы. I.Возраст зрелости
Подступило. Сначала Марсель подумала о сливочном масле и почувствовала к нему отвращение, ей показалось, будто она жует кусок желтого прогорклого масла, она тут же ощутила в глубине глотки что-то вроде приступа хохота и нагнулась над раковиной. На губах висела тонкая нить. Марсель закашляла, чтобы освободиться от нее. Это не вызывало в ней отвращения. Но она часто становилась себе противной: прошлой зимой, когда у нее был понос, она не хотела, чтобы Матье дотрагивался до нее, ей постоянно казалось, что от нее скверно пахнет. Она смотрела на слизь, которая медленно скользила к отверстию раковины, оставляя блестящие, липкие следы. Она вполголоса прошептала: «Ну и дела!» Эти выделения у нее не вызывали брезгливости: все же это жизнь, подобная клейкому зарождению весны, все это не более отталкивает, чем пахучий рыжий клей, покрывающий почки. «Не это отвратительно». Она плеснула немного воды, чтобы вымыть раковину, вялыми движениями сняла рубашку. Она подумала: «Будь я животным, меня оставили бы в покое». Она смогла бы предаться этой живительной истоме, купаться в ней, как в лоне огромной счастливой усталости. Но она не животное. «Мы от него избавимся, разве не так?» Со вчерашнего вечера она чувствовала себя затравленной.
Зеркало отражало ее лицо, обрамленное свинцовыми тенями. Марсель подошла ближе к зеркалу. Она не глядела ни на свои плечи, ни на грудь: она не любила своего тела. Она смотрела на свой живот, на широкий плодоносный таз. Семь лет назад, утром – Матье тогда впервые провел с ней ночь – она подошла к зеркалу с тем же неуверенным удивлением, тогда она думала: «Значит, правда, меня можно любить?» – она созерцала свою гладкую шелковистую кожу, похожую на ткань; тело ее было только поверхностью, ничем, кроме поверхности, созданной, чтобы отражать чистую игру света и морщиниться под ласками, точно море под ветром. Сегодня это уже не та плоть: она посмотрела на свой живот и вновь испытала перед спокойным изобилием тучных плодородных лугов то же ощущение, которое испытывала, когда была маленькой, при виде женщин, кормящих грудью детей в Люксембургском саду: еще оттуда шел ее страх, ее отвращение и что-то вроде надежды. Она подумала: «Это здесь». В этом чреве маленькая кровавая земляника с невинной поспешностью торопилась жить, маленькая кровавая земляничина, совсем бессмысленная, которая даже не стала еще животным и которую скоро выскребут кончиком ножа. «В этот час многие другие тоже смотрят на свой живот и думают так же: «Это здесь». Но они-то гордятся». Она пожала плечами: это бездумно созревшее тело было создано для материнства, но мужчина распорядился им иначе. Она пойдет к той бабке: надо просто представить себе, что это фиброма. «Сейчас это действительно всего-навсего фиброма». Она пойдет к бабке, раздвинет ноги, и та будет скрести глубоко между ее бедер каким-то приспособлением. А потом об этом не будет и речи, останется лишь постыдное воспоминание, подумаешь, со всеми такое случается. Она вернется в свою розовую комнату, будет продолжать читать, мучиться желудком, и Матье будет приходить к ней четыре ночи в неделю, какое-то время будет обращаться с ней с ласковой деликатностью, как с молодой матерью, а в постели удвоит предосторожности, и Даниель, Архангел Даниель, время от времени будет приходить тоже... Загубленная возможность! Марсель застала врасплох свой взгляд в зеркале и быстро отвернулась: нет, она не хотела ненавидеть Матье. Она подумала: «Пора все же привести себя в порядок».
У нее не было на это сил. Марсель снова села на кровать, осторожно положила руку на живот, как раз над черными волосками, немного нажала и подумала с какой-то нежностью: «Это здесь». Но ненависть не складывала оружия. Марсель попыталась себе втолковать: «Нет, не хочу его ненавидеть. Он по-своему прав... Мы всегда говорили, что в случае чего... Он не мог знать, это моя вина, я никогда ничего ему не говорила». Она на мгновение поверила, что может расслабиться, ей вовсе не хотелось иметь повод его презирать. Но тут же она вздрогнула: «А как я могла ему сказать? Он никогда ничего у меня не спрашивает». Конечно, они раз и навсегда договорились, что будут рассказывать друг другу все, но это было удобно, главным образом, для него. Он любил демонстрировать причуды своего сознания, свою нравственную тонкость: Марсель он вполне доверял – скорее всего из лени. Он не терзался из-за нее, он просто думал: «Если у нее что-то есть, она мне скажет». Но она не могла говорить, у нее это просто не получалось. «Однако он должен был бы знать, что я не могу говорить о себе, для этого я недостаточно себя люблю». С Даниелем было иначе, он умел заинтересовать ее самой собою, когда так дружелюбно расспрашивал ее и смотрел на нее ласкающими глазами, и потом у них была общая тайна. Даниель был такой загадочный, он навещал ее тайком, и Матье не знал об их близкой дружбе, впрочем, они ничего предосудительного не делали, так, милый фарс, но это сообщничество создавало между ними очаровательно-легкую близость; к тому же Марсель хотела иметь малую толику личной жизни, которая принадлежала бы только ей и оставалась бы ее маленьким секретом. «Ему нужно только поступать, как Даниель, почему он не Даниель? – подумала она. – Почему один только Даниель умеет меня разговорить? Если бы он мне немного помог...» Весь вчерашний день у нее сжимало горло, ей хотелось крикнуть: «А что если я оставлю ребенка?» Ах! Помешкай он хоть секунду, я бы так ему и сказала. Но он изобразил наивность: «Мы избавимся от него, разве не так?» И она не смогла выдавить из себя этих слов. «Он был обеспокоен, когда уходил: он не хочет, чтоб эта бабка меня изуродовала. Это – да, он пойдет за адресами, это его как-то займет, теперь, когда у него нет уроков, все лучше, чем канителиться с малышкой. Конечно, он был раздосадован, но как человек, разбивший китайскую вазу. А в глубине души совесть его абсолютно спокойна... Должно быть, он пообещал себе, что щедро одарит меня любовью». Она усмехнулась: «Да. Но ему следует торопиться: скоро я перешагну возраст любви».
Марсель судорожно сжала руки на простыне, она ужаснулась: «Если я начну его ненавидеть, с чем же я останусь?» В конце концов она сама не знала, хочет ли она ребенка. Марсель видела издалека в зеркале темную, слегка осевшую массу: это ее тело, тело бесплодной султанши. «А выжил бы он? Ведь я вся прогнила». Нет, она пойдет к этой бабке, пойдет ночью, ото всех прячась. И бабка проведет рукой по ее волосам, как она это сделала с Андре, и с видом гнусного сообщничества назовет ее «мой котеночек» и скажет: «Когда девка не замужем, ходить с пузом – все равно что с гонореей, такая же мерзость»; «У меня венерическая болезнь», – вот что нужно себе говорить».
Но она не удержалась и нежно провела рукой по животу. Она подумала: «Это там». Там. Нечто живое и неудачливое, как она сама. Еще одна нелепая и никчемная жизнь... Внезапно она страстно подумала: «Он был бы мой. Даже идиот, даже калека – мой». Но этот тайный порыв, это невнятное заклинание были такими скрытыми, такими непристойными, их нужно было скрывать от стольких людей, что она вдруг почувствовала себя виноватой и ужаснулась сама себе.
VI
Над входной дверью был прикреплен герб Французской республики, по бокам его свисали трехцветные флаги: это сразу задавало тон. Потом шли просторные пустынные залы; через матовый витраж падал сноп золотистого света, но тут же истаивал и обесцвечивался. Светлые стены, обивка из бежевого бархата. Матье подумал: «Это во французском духе». Французский дух был повсюду, на волосах Ивиш, на руках Матье: блеклое солнце и строгая тишина художественных салонов; Матье чувствовал, как на него давит бремя гражданских обязанностей: здесь подобало говорить тихо, не дотрагиваться до выставленных предметов, демонстрировать твердость и взвешенность суждений и никогда не забывать о самой французской из добродетелей – уместности. Кроме всего этого, естественно, на стенах были пятна – картины, но у Матье пропало всякое желание на них смотреть. Тем не менее он увлек за собой Ивиш, не говоря ни слова, показал ей бретонский пейзаж с придорожным распятием, Христа на кресте, букет, двух таитянок на песке и дозор всадников из племени маори. Ивиш молчала, и Матье терялся в догадках: о чем она могла думать? Он пытался изредка смотреть на картины, но это ничего не давало. «Картины не захватывают, – подумал он раздраженно, – они предлагают себя, а существуют они или нет, зависит только от меня, я свободен перед ними». Слишком свободен: это создавало в нем дополнительную ответственность, и он почувствовал себя виноватым.
– А вот еще Гоген, – сказал он.
Это было маленькое квадратное полотно с табличкой «Автопортрет художника». Гоген, бледный, гладкие волосы и огромный подбородок, на лице его написаны живой ум и печальная надменность ребенка. Ивиш не отвечала, и Матье украдкой посмотрел на нее: он увидел только ее волосы, но без обычной их позолотцы, они лишились золотистости из-за мутноватого дневного света. На прошлой неделе, глядя на этот портрет впервые, Матье нашел его прекрасным. Но теперь он остался равнодушен. Впрочем, Матье и не видел картины: он был перенасыщен реальностью, пронизан духом Третьей республики; он видел все, что было реальным; он видел только то, что освещал этот академический свет: стены, полотна в рамках, покрытые цветовой коркой. Но не сами картины; картины угасли, и казалось чудовищным, что в этом торжестве Уместности нашлись люди, которые рисовали, изображали на полотнах несуществующие предметы.