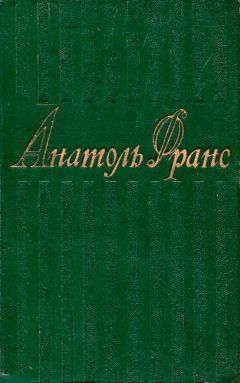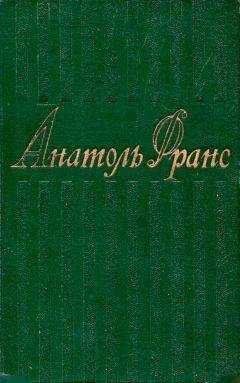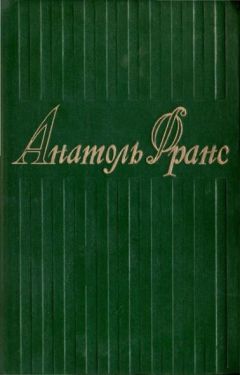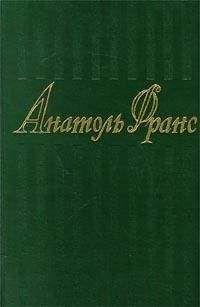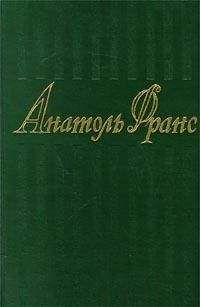Анатоль Франс - Том 2. Валтасар ; Таис ; Харчевня Королевы Гусиные Лапы ; Суждения господина Жерома Куаньяра ; Перламутровый ларец
Благословляю провидение, направившее мои пути к границе, ибо тут я обрел мужество.
(Писано на биваке, на Самбре, от седьмого дня декады 27 фримера по шестой день декады 6 нивоза II года французской Республики, рекрутом Пьером Обье.)
Рассвет
Мадемуазель Леони Бернардини
Аллея Королевы была пустынна. Глубокая тишина летнего безветренного дня царила на зеленых берегах Сены, под старыми подстриженными буками, от которых уже тянулись к востоку длинные тени, и в покойной лазури безоблачного неба, не пасмурного, но и не солнечного. Какой-то прохожий, возвращавшийся из Тюильри, медленно направлялся к холмам Шайо. Изящная худоба говорила о его юности, а камзол, короткие штаны и черные чулки изобличали его принадлежность к буржуазии, владычество которой, наконец, наступило. Однако его лицо выражало скорее озабоченность, нежели восторг. Он держал книгу в руке; палец, заложенный между страницами, отмечал место, на котором он прервал чтение; но он больше не читал. По временам он останавливался и прислушивался, стараясь уловить неясный и, однако ж, грозный гул, доносившийся из Парижа, и в этом гуле, более приглушенном, нежели вздох, он угадывал предсмертные стоны, крики ненависти, радости, любви, бой барабанов, выстрелы,— словом, всю ту тупую жестокость и высокий восторг, которые революции подъемлют с городских мостовых и возносят к пламенному солнцу! Порою юноша оборачивался и вздрагивал. Все, что он узнал, все, что он услышал и увидел в последние часы, запечатлелось в его сознании образами смутными и странными: Бастилия взята, и стены ее разрушены народом; купеческий старшина убит выстрелом из пистолета в гуще разъяренной толпы; комендант крепости, старик де Лонэ, заколот у подъезда ратуши; грозная чернь, бледная, как сам голод, вне себя от возбуждения, хмельная, грезящая кровью и славой, откатывалась от Бастилии к Гревской площади; а над сотнями тысяч этих подверженных галлюцинациям голов — тела повешенных на фонарных столбах инвалидов и увенчанное дубовыми листьями чело триумфатора в синем с белым мундире; победители, со списками заключенных, серебряной утварью и ключами от старинной крепости, всходят среди яростных кликов на окровавленные ступени; а во главе их, взволнованные, торжествующие, еще не веря себе, стоя ногами в крови, а головой уносясь в заоблачные выси, шествуют народные представители Лафайет и Бальи {285}. И вдруг бушующую толпу обуревает страх: проносится слух, что ночью королевские войска вступят в город; тотчас начинают рушить решетки дворцов, из них делают пики, грабят оружейные склады; на улицах граждане воздвигают баррикады, а женщины втаскивают на крыши зданий камни, чтобы побивать ими иностранные полки!
Жестокие сцены, проносясь в воображении молодого мечтателя, принимают печальную окраску. Держа в руках свою любимую книгу, английскую книгу, исполненную размышлений о смерти, он идет вдоль берегов Сены, под кронами аллеи Королевы, к тому белому дому, вокруг которого ночью и днем витают его мысли. Кругом все спокойно. Он видит рыболовов, которые сидят на берегу, свесив ноги в воду; и он следит рассеянным взглядом за течением реки. Поднявшись на первые отроги холмов Шайо, он встречает патруль, охраняющий дорогу между Парижем и Версалем. Отряд, вооруженный ружьями, мушкетами, алебардами, составлен из ремесленников в саржевых или кожаных фартуках, из судейских, одетых в черное, священника и бородатого великана, босого, в одной рубашке. Они останавливают каждого прохожего: подозревают о связи между комендантом Бастилии и двором; опасаются вероломного нападения.
Но прохожий молод и простодушен с виду. После первых же слов, которые он произносит, патруль, посмеиваясь, пропускает его.
Он поднимается по отлогому склону, вдыхая запах цветущей жимолости, и, не дойдя до конца улочки, останавливается у решетки сада.
Сад невелик, но извилистые дорожки, холмистая местность удлиняют путь. Ивы купают концы своих ветвей в бассейне, где плавают утки. На углу улицы высится на пригорке легкая беседка, а перед домом раскинулась зеленая лужайка. Там, на деревянной скамейке, сидит молодая женщина; она склонила голову; ее лицо скрыто большой соломенной шляпой с венком из живых цветов вокруг тульи. Поверх розового в белую полоску платья на ней косынка, завязанная немного выше талии, что, удлиняя юбку, сообщает фигуре изящество. Ее руки, обтянутые узкими рукавами, покоятся праздно. Корзина античной формы, доверху наполненная клубками шерсти, стоит у ее ног. Тут же золотокудрый ребенок с голубыми глазами собирает лопаткой в кучки песок.
Молодая женщина сидит не шелохнувшись, как зачарованная; а юноша, стоя у решетки, не дерзает рассеять сладостное очарование. Но вот она поднимает голову; ее молодое, почти детское лицо с правильными чертами обличает в ней натуру нежную и кроткую. Он склоняется перед ней. Она протягивает ему руку.
— Здравствуйте, господин Жермен! Какие новости? «Какие новости вы принесли?» — как поется в песне. Я знаю только песни.
— Простите меня, сударыня, что я помешал вашим мечтам. Я любовался вами. Одинокая, недвижная, с головой, склоненной долу, вы казались мне грезящим ангелом.
— Одинокая! Одинокая! — отвечает она, как будто расслышав лишь это слово.— Одинокая! Бываю ли я одинока?
И, заметив, что он смотрит на нее в недоумении, она прибавляет:
— Ах, не расспрашивайте меня! Это мои сокровенные мечты… Скажите же, какие новости?
Он рассказывает ей о великих событиях дня: Бастилия пала, провозглашена свобода. Софи слушает серьезно.
— Надо радоваться,— говорит она,— но наша радость должна быть суровой радостью самоотречения. Отныне французы не принадлежат себе; они принадлежат революции, которая преобразует мир.
В то время как она произносит эти слова, ребенок радостно бросается к ней на колени.
— Посмотри, мама, посмотри же, какой хорошенький садик!
Целуя его, она говорит:
— Ты прав, Эмиль! В жизни самое мудрое занятие— возделывать сад!
— И это верно,— замечает Жермен.— Какая галерея, изукрашенная порфиром и позолотой, сравнится с этой зеленой аллеей?
И, представив себе всю прелесть прогулки по тенистой садовой дорожке, рука об руку с молодой женщиной, он, бросив на нее выразительный взгляд, восклицает:
— Ах, что мне до человечества и революций!
— О нет! — говорит она.— Нет! Я не могу не думать о великом народе, который стремится установить царство справедливости на земле. Моя приверженность новым идеям вас удивляет, господин Жермен? Мы с вами знакомы с недавнего времени. Вы не знаете, что отец выучил меня читать по «Общественному договору» и евангелию. Однажды, гуляя со мной, он показал мне Жан-Жака. Увидев омраченное лицо мудрейшего из людей, я, будучи тогда еще ребенком, залилась слезами. Я воспитана в ненависти к религиозным предрассудкам. Позднее мой муж, подобно мне последователь философских принципов «естественного человека», пожелал дать нашему сыну имя Эмиль и приучить его с ранних лет к физическому труду. В последнем письме, написанном им, тому три года, на борту судна, за несколько дней до кораблекрушения, при котором мой муж погиб, он напоминает мне о советах Руссо касательно воспитания. Я вся проникнута новыми идеями. Я верю, что надо бороться во имя справедливости и свободы.
— Как и вы, сударыня,— вздохнул Жермен,— я испытываю ужас перед фанатизмом и тиранией; как и вы, я люблю свободу, но дух мой немощен. Течение мысли обрывается поминутно. Я не владею собой и страдаю.
Молодая женщина не ответила. Какой-то старик отворил калитку и вошел в сад, размахивая шляпой в высоко поднятой руке. Он не носил парика и не пудрил волос. Длинные седые пряди ниспадали по обе стороны его лысого черепа. На нем был серый камзол, синие чулки и туфли без пряжек.
— Победа! Победа! — воскликнул он.— Цитадель тирании в наших руках, и я спешил к вам с этим известием, Софи!
— Я уже слыхала об этом от господина Жермена, сосед! Позвольте вам его представить. Его мать была подругой моей матери в Анже. Вот уже полгода, как он в Париже, и время от времени навещает меня в моем уединении. Господин Жермен, вы имеете удовольствие видеть моего соседа и друга, писателя Франшо де Лакаванна.
— Говорите: Николя Франшо, землепашца.
— Знаю, сосед, что именно так вы подписались под вашей памятной запиской о торговле зерном. Ну, что ж! В угоду вам, хотя мне отлично известно, что вы искуснее владеете пером, нежели оралом, скажу: Николя Франшо, землепашец.
Обняв Жермена, старик воскликнул:
— Наконец-то пала крепость, в которой угас не один светоч разума и добродетели! Распались засовы, за которыми я пробыл восемь месяцев без воздуха и света. Тридцать один год тому назад, семнадцатого февраля тысяча семьсот шестьдесят восьмого года я был брошен в Бастилию за то, что написал письмо в защиту терпимости. Но ныне народ отомстил за меня. Разум и я — мы восторжествовали! Память о нынешнем дне не изгладится, пока существует вселенная: призываю в свидетели солнце! Оно видело гибель Гиппарха и бегство Тарквиниев {286}.