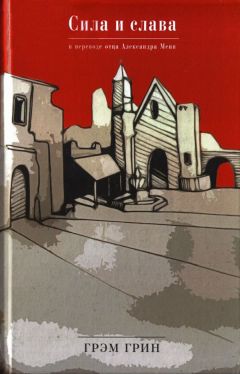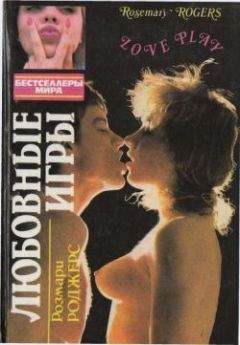Грэм Грин - Избранное
Отец Ривас взял письмо и сел на пол возле гроба.
— Забыл, на чем я остановился.
Отец Ривас прочел:
— «Не беспокойся, детка, что ты останешься одна с ребенком. Ему лучше быть с матерью, чем с отцом. Я хорошо это знаю. Сам остался один с отцом, и это было совсем невесело. Одни только лошади, лошади…» Вот и все. Вы остановились на лошадях.
— «Наверно, ты подумаешь, — продолжал Чарли Фортнум, — что в том положении, в каком я нахожусь, надо уметь прощать. Даже отца. Пожалуй, он был не такой уж плохой. Дети чересчур легко ненавидят…» Лучше вычеркните там, где насчет лошадей, отец.
Отец Ривас зачеркнул указанные слова.
— Напишите вместо этого… но что? Я отвык откровенничать в письмах, вот в чем беда. Налейте мне капельку виски, отец. Может, мозги заработают или то, что от них осталось… я, конечно, говорю о своих мозгах.
Отец Ривас налил ему виски.
— Я предпочитаю «Лонг Джон», — сказал Чарли Фортнум, — но пойло, которое вы принесли, не такая уж дрянь. Если долго здесь пробуду, может, войду во вкус этого вашего аргентинского виски, однако с ним мне блюсти норму куда сложнее, чем с шотландским. Вам этого не понять, отец мой, но у всякого питья своя норма, кроме воды, разумеется. Вода вообще не для питья. От воды ржавеют внутренности, а то еще и брюшной тиф подхватишь. Нет от нее пользы ни человеку, ни животным, только этим чертовым лошадям. А что, если я вас попрошу выпить со мной по маленькой?
— Нет. Я, можно сказать, при исполнении служебных обязанностей. Будете продолжать письмо?
— Да, конечно. Я просто переждал, чтобы виски подействовало. Вы вычеркнули тот кусок насчет лошадей? Что же мне сказать еще? Понимаете, я хочу поговорить с ней просто, как если бы мы сидели вдвоем на веранде у нас в поместье, но слова никогда не давались мне легко — на бумаге. Надеюсь, вы меня понимаете. В конце концов, вы тоже вроде как женаты, отец мой.
— Да, я тоже женат, — сказал отец Ривас.
— Но там, куда я отправлюсь, никаких браков не бывает, так по крайней мере вы, священники, нам всегда толкуете. Это немножко обидно теперь, когда я так поздно нашел наконец подходящую девушку. Следовало бы завести на небесах посетительские дни, чтобы можно было чего-то ожидать, хотя бы время от времени. Как это делают в тюрьме. Какой же это рай, если не ждешь ничего хорошего? Видите, выпив свою норму виски, я даже ударился в богословие… На чем же я остановился? Ах да, на лошадях. Вы уверены, что мы вычеркнули лошадей этого старого ублюдка?
Из другой комнаты появился доктор Пларр; он ступал бесшумно по земляному полу, и ни тот, ни другой не подняли головы. Оба были заняты письмом. Он молча постоял у двери. На вид это была парочка старых друзей.
— «Пусть ребенок поступит в местную школу, — диктовал Чарли Фортнум, — а если это будет мальчик, только не посылай его в ту шикарную английскую школу в Буэнос-Айресе, где я учился. Мне там было нехорошо. Пусть он станет настоящим аргентинцем, как ты сама, а не серединкой на половинку вроде меня». Написали, отец мой?
— Да. Не написать ли ей что-нибудь о том, почему письмо написано разными почерками? Она может удивиться…
— Вряд ли она это заметит. Да и Пларр сумеет ей объяснить, как было дело. Бог ты мой, сочинять письмо все равно что запускать в ход «Гордость Фортнума» в дождливое утро. Рывок за рывком. Только покажется, что мотор заработал, а он тут же глохнет. Ну ладно… Пишите, отец: «Лежа здесь, я больше всего думаю о тебе, и о ребенке тоже. Дома ты всегда лежишь справа от меня, и я могу положить правую руку тебе на живот и почувствовать, как брыкается оголец, но здесь справа ничего нет. Кровать слишком узкая. Впрочем, довольно удобная. Мне не на что жаловаться. Я счастливее многих других». — Он сделал паузу. — Счастливее… — И тут он закусил удила: — «До того как я встретил тебя, детка, я был человек конченый. Каждый должен хоть к чему-то стремиться. Даже миллионер хочет нажить еще миллион. Но до того, как ты у меня появилась, к чему мне было стремиться — разве что выпить свою норму. Моим матэ я, в сущности, никогда особенно похвастать не мог. Потом я нашел тебя, и у меня появилась какая-то цель. Мне захотелось сделать так, чтобы ты была довольна, обеспечить тебе будущее, а тут вдруг появился еще и этот наш ребенок. Теперь у нас с тобой одна и та же забота. Я не собирался жить долго. Все, чего мне хотелось, — это сделать так, чтобы первые годы были у него хорошие — первые годы так важны для ребенка, они вроде бы закладывают основу. Ты не думай, что я оставил всякую надежду, я еще отсюда выберусь, несмотря на них всех». — Он снова сделал паузу. — Конечно, это только шутка, отец мой. Как я могу выбраться? Но я не хочу, чтобы она думала, будто я отчаялся… Ах ты, господи, «Гордость Фортнума» на какое-то время заработала, мы чуть не выбрались из кювета, но больше я не могу. Просто напишите: «Дорогая моя девочка, люблю тебя».
— Вы что, кончили письмо?
— Да. Пожалуй, да. Чертовски трудное дело — писать письма. Подумать только, бывает, увидишь на библиотечной полке чьи-то «Избранные письма». Вот бедняга! А то и два тома писем!.. Кое-что я все-таки позабыл сказать. Впишите в самом конце. Как постскриптум. Понимаете, отец мой, это же у нее первый ребенок. У нее нет никакого опыта. Люди говорят, что у женщины действует инстинкт. Но лично я в этом сомневаюсь. Напишите так: «Пожалуйста, не давай ребенку сладостей. Это вредно для зубов, они совсем мне зубы испортили, а если что-нибудь тебе будет неясно, спроси у доктора Пларра. Он хороший врач и верный друг…» Вот и все, что я могу придумать. — Он закрыл глаза. — Может, попозже добавлю что-нибудь еще. Хотелось бы дописать два-три слова, прежде чем вы меня убьете, те самые знаменитые предсмертные слова, но сейчас я слишком устал, чтобы еще что-нибудь сочинять.
— Не теряйте надежды, сеньор Фортнум.
— Надежды на что? С тех пор как я женился на Кларе, я стал бояться смерти. Есть только одна счастливая смерть — это смерть вдвоем, но, даже если бы вы не вмешались, я слишком стар, чтобы так умереть. Подумать страшно, что она останется одна и будет бояться, когда наступит ее очередь умирать. Я хотел бы находиться рядом, держать ее за руку, утешать: ничего, Клара, я ведь тоже умираю, не бойся, и не так уж плохо умереть. Вот я и заплакал, теперь вы сами видите, какой я храбрец. Только мне не себя жалко, отец. Просто мне не хочется, чтобы она была одинока, когда станет умирать.
Отец Ривас неопределенно взмахнул рукой. Может быть, хотел его благословить, но забыл, как это делается.
— Господь да пребудет с вами, — сказал он без особой уверенности.
— Оставьте его себе, вашего господа. Простите, отец, но я что-то не вижу даже и признаков его присутствия, а вы?
Доктор Пларр ушел в другую комнату, бешено злясь неизвестно на что. Каждое слово письма, продиктованного Фортнумом, он почему-то воспринимал как упрек, несправедливо направленный в его адрес. Он был так разъярен, что зашагал прямо к выходу, но, почувствовав, что автомат индейца упирается ему в живот, остановился. Ребенок, думал он, что ни слово — ребенок, верный друг, не давай ребенку сладостей, чувствую, как он брыкается… Он постоял на месте, хотя автомат все так же упирался ему в живот, и желчно сплюнул на пол.
— В чем дело, Эдуардо? — спросил Акуино.
— До смерти надоело сидеть здесь, как в клетке. Какого черта, неужели вы не можете мне поверить и меня отпустить?
— Нам нужен врач для Фортнума. Если ты уйдешь, ты не сможешь вернуться.
— Я ничем больше не могу помочь Фортнуму, а здесь я как в тюрьме.
— Ты не говорил бы так, если побывал бы в настоящей тюрьме. Для меня это свобода.
— Сто квадратных метров земляного пола…
— Я привык к девяти. Так что мир для меня намного расширился.
— Ты, наверно, можешь сочинять стихи в любой дыре, а мне здесь нечего, абсолютно нечего делать. Я врач. Одного пациента мне мало.
— Теперь я больше не сочиняю стихов. Они были частью тюремной жизни. Я сочинял стихи, потому что их легче запомнить. Это был способ общения, и все. А теперь, когда у меня есть сколько угодно бумаги и ручка, я не могу написать ни строки. Ну и плевать. Зато я живу.
— Ты зовешь это жизнью? Вам даже нельзя прогуляться в город.
— Я никогда не любил гулять. Всегда был лентяем.
Вошел отец Ривас.
— Где Пабло и Диего? — спросил он.
— На посту, — сказал Акуино. — Ты их сам послал.
— Марта, захвати одного из них и ступай в город. Может, это наша последняя возможность. Купи как можно больше продуктов. Чтобы хватило на три дня. И чтобы их нетрудно было нести.
— Отчего ты встревожился? — спросил Акуино. — Ты узнал плохие новости?
— Меня беспокоит вертолет… и слепой старик тоже. Ультиматум истекает в воскресенье вечером, а полиция может быть здесь задолго до этого.