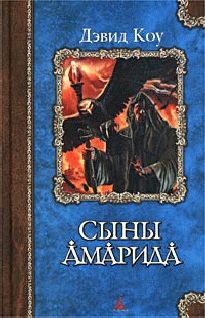Уильям Моэм - Бремя страстей человеческих
— Да, все вы ничего не знаете!
С этими словами он вышел из комнаты и оставил Филипа одного. Вошла служанка, чтобы убрать со стола, и сообщила Филипу, что доктор Саут принимает больных от шести до семи. Работа на этот день была кончена. Филип принес из своей комнаты книгу, закурил трубку и уселся читать. Он получал от этого огромное удовольствие — ведь последние несколько месяцев он не брал в руки ничего, кроме книг по медицине. В десять часов пришел доктор Саут. Филип любил сидеть, задрав ноги, и пододвинул к себе для этого стул.
— Вы, я вижу, умеете удобно устраиваться, — заметил доктор Саут так угрюмо, что Филип непременно бы расстроился, не будь он в таком хорошем настроении.
Глаза у Филипа насмешливо блеснули.
— А вам это неприятно?
Доктор Саут взглянул на него, но на вопрос не ответил.
— Что это вы читаете?
— «Перегрина Пикля» Смоллета.
— Вы думаете, я не знаю, что «Перегрина Пикля» написал Смоллет?
— Извините. Но, как правило, медики не очень интересуются литературой.
Филип положил книгу на стол, и доктор взял ее посмотреть. Это был томик, принадлежавший блэкстеблскому священнику. Тонкая книжка была переплетена в выцветший сафьян, за титульным листом шла гравюра на меди, ветхие страницы пожелтели и были в пятнах от плесени. Филип невольно потянулся к книге, когда доктор ее взял; в глазах его мелькнула насмешка. От взгляда старика ускользало немногое.
— Изволите надо мной потешаться? — осведомился он ледяным тоном.
— Я вижу, вы любите книги. Это всегда заметно по тому, как люди их держат.
Доктор Саут сразу же положил книгу.
— Завтрак в половине девятого, — отрезал он и вышел из комнаты.
«Ну и чудак!» — подумал Филип.
Он скоро понял, почему помощникам доктора Саута было так трудно с ним ладить. Прежде всего он наотрез отказывался признавать все открытия медицины за последние тридцать лет; терпеть не мог модных лекарств, которые будто бы сначала творят чудеса, а через несколько лет выходят из употребления; у него был набор ходовых снадобий — он привык к ним еще в больнице св. Луки, когда был студентом, и применял всю жизнь, находя их не менее целебными, чем новомодные средства. Филипа поразило недоверчивое отношение доктора Саута к асептике; ему приходилось пользоваться ею, уступая господствующему мнению, но он принимал меры предосторожности, на которых так строго настаивали в больнице, с небрежной снисходительностью взрослого, играющего с детьми в солдатики.
— Видали! — говорил он. — Видали, как появилась антисептика и все смела на своем пути, а потом на ее место пришла асептика. Чепуховина!
Приезжавшие к нему молодые люди прошли больничную практику и научились там презирать врача, которому приходится лечить все болезни; однако в клинике им встречались только сложные случаи: они знали, как помочь при загадочном расстройстве надпочечников, но терялись, когда их просили вылечить насморк. Знания их были чисто теоретические, а самомнение не имело границ. Доктор Саут наблюдал за ними, сжав зубы; он с мстительным удовольствием показывал им, как велико их невежество и беспочвенно зазнайство. Пациенты были небогатые — в основном рыбаки, — и врач сам готовил лекарства. Доктор спрашивал своих помощников, как они собираются сводить концы с концами, если будут выписывать рыбакам, у которых болит живот, микстуру, составленную из полудюжины дорогих медикаментов. Он жаловался на то, что молодые врачи — совершенные дикари: они читают только «Спортинг таймс» и «Бритиш медикал джорнэл», пишут неразборчиво и с ошибками. Несколько дней доктор наблюдал за Филипом очень пристально, готовый накинуться на него при малейшей оплошности, а Филип, понимая это, делал свое дело, тихонько посмеиваясь. Ему нравилась новая работа. Он радовался своей независимости и чувству ответственности. В приемную врача приходили самые разные люди. Филипу отрадно было чувствовать, что он внушает пациентам доверие; он с живым интересом наблюдал за процессом их выздоровления — ведь в больнице св. Луки он мог следить за этим только урывками. Обход больных приводил его в низенькие хибарки — там повсюду лежали рыболовные снасти, паруса и памятки о плаваниях в далеких морях: лакированный ларчик из Японии, пики и весла из Меланезии, кинжал, купленный на базаре в Стамбуле; тесные комнатушки дышали романтикой, а соленый запах моря придавал им пряную свежесть. Филип любил поговорить с матросами, а они, видя, что в нем нет и тени высокомерия, стали делиться с ним воспоминаниями о дальних странствиях своей юности.
Раза два он ошибся в диагнозе (ему еще не приходилось видеть корь, и, когда появилась сыпь, он подумал, что это какая-то непонятная накожная болезнь) и раза два разошелся с доктором Саутом в вопросе о том, как лечить больного. Первый раз доктор обрушил на него поток убийственной иронии, но Филип отнесся к этой вспышке с юмором; он и сам был остер на язык и так отбрил старика, что тот осекся и поглядел на него с изумлением. На лице у Филипа не было и тени улыбки, но глаза его смеялись. Старику было ясно, что Филип его поддразнивает. Он привык, что помощники его не любят и боятся, но тут было что-то новое. Он чуть было не пришел в ярость и не спровадил Филипа с глаз долой, как это делал не раз со своими ассистентами, но его смущало, что тогда Филип посмеется над ним в открытую. И вдруг ему самому стало смешно. Губы его помимо воли растянулись в улыбке, и он отвернулся. Скоро до его сознания дошло, что Филип потешается над ним постоянно. Сначала он растерялся, а потом пришел в хорошее настроение.
— Вот чертов нахал! — ухмылялся он втихомолку. — Вот нахал!
117
Филип написал Ательни, что едет на временную работу в Дорсетшир, и получил от него ответ. Письмо было написано в обычном для Ательни выспреннем стиле, унизано напыщенными эпитетами, как персидская диадема — драгоценными камнями, и красиво начертано совершенно неразборчивыми готическими буквами. Ательни приглашал Филипа отправиться с ним и его семьей в Кент, на хмельник, куда они ездили каждый год; чтобы завлечь его, он красиво и витиевато разглагольствовал насчет души Филипа и вьющихся побегов хмеля Филип сразу же ответил, что приедет, как только освободится. Хотя остров Танет и не был его родиной, он питал к нему особое пристрастие; его восхищала мысль о том, что он проведет две недели на лоне природы, в таком чудном уголке, — дай ему голубое небо, и он будет не хуже оливковых рощ Аркадии.
Месяц в Фарнли пролетел очень быстро. Наверху, на горе, строился новый город с красными кирпичными виллами вокруг площадки для гольфа и недавно открытого большого курортного отеля; но туда Филип попадал редко. Внизу в прелестном беспорядке жались к гавани каменные домики, построенные лет сто назад; узкие улочки круто ползли в гору, воскрешая старину и будя воображение. У самой воды стояли чистенькие коттеджи с ухоженными крохотными палисадниками; в них жили отставные капитаны торгового флота и матери или вдовы тех, кто кормился морем; все здесь дышало своеобразием и покоем. В маленький порт заходили торговые суда из Испании и Леванта, но время от времени ветры романтики заносили сюда и парусный корабль. Все это напоминало Филипу об узкой грязной гавани Блэкстебла, где у пирса стояли угольщики; там впервые родилась у него тоска по Востоку, по залитым солнцем островам тропических морей — тоска, которая томила его и теперь. Но здесь человек чувствовал себя куда ближе к бескрайним океанским просторам, чем на Северном море, которое всегда точно заперто в свои берега; глядя на эту ширь, можно вздохнуть полной грудью; а западный ветер, милый соленый ветер Англии, бодрил душу, заставляя ее в то же время таять от нежности.
Как-то, вечером, в последнюю неделю пребывания Филипа у доктора Саута, к дверям операционной, где старик и Филип готовили лекарства, подошла маленькая босоногая оборванка с чумазым лицом. Филип отворил дверь.
— Пожалуйста, сэр, не можете ли вы сейчас же прийти к миссис Флетчер на Айви-лейн?
— А что случилось с миссис Флетчер? — отозвался доктор Саут своим скрипучим голосом.
Девочка не обратила на него ни малейшего внимания и снова обратилась к Филипу:
— Пожалуйста, сэр. С ее мальчиком случилось несчастье, не можете ли вы прийти поскорее?
— Скажи миссис Флетчер, что я сейчас приду, — крикнул ей доктор Саут.
Девочка застыла в нерешительности; сунув замусоленный палец в замусоленный рот, она смотрела на Филипа.
— В чем дело, малышка? — улыбаясь, спросил Филип.
— Пожалуйста, сэр, миссис Флетчер просила, чтобы пришел новый доктор.
В комнате послышался какой-то шум, и в коридор вышел доктор Саут.
— Миссис Флетчер мной недовольна? — рявкнул он. — Я лечил миссис Флетчер с тех пор, как она родилась. А теперь я для нее стал плох и не могу лечить ее пащенка?