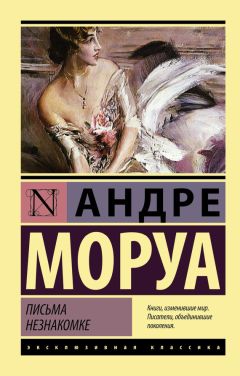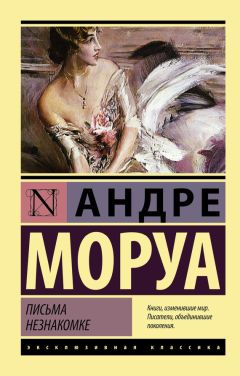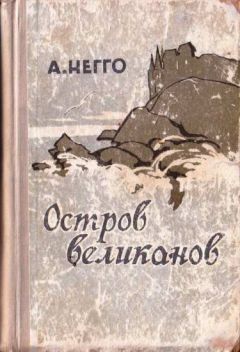Андре Моруа - Меип, или Освобождение
— Законный путь, что это может означать? Что он может с тобой сделать?
— О, все… процесс об адюльтере.
— Что за глупости! Шестнадцать франков штрафа? Он был бы совсем смешон!
— Да, но такой влиятельный человек может закрыть двери к всякой карьере. Сопротивляться было бы безумием и, наоборот, уступая… Кто знает?
— Ты согласился?
— Через неделю я с нею уезжаю в коллеж Люксейля.
— А она?
— Ах, — сказал мне Лекадьё, — она достойна удивления. Я провел сегодня вечер с нею. Я ее спросил: «Вас не страшит жизнь в маленьком городе, отсутствие роскоши, скука?» Она мне ответила: «Я уезжаю с вами, и мне этого достаточно».
Тогда я понял, почему Лекадьё так легко подчинился: он был опьянен тем, что может жить свободно со своей любовницей.
* * *В те времена я тоже был еще очень молод, и этот театральный поступок носил такой драматический характер, что я принял его как фатальную необходимость, не рассуждая. Позже, когда я размышлял об этих событиях, уже обладая некоторым знанием людей, я понял, что Треливан искусно воспользовался неопытностью мальчика, чтобы устранить затруднения с собственного пути. Уже давно он хотел освободиться от надоевшей ему жены. Впоследствии мы узнали, что он решил тогда жениться на Марсе. Он знал о первом любовнике, но колебался поднимать скандал, который вследствие отношений с этим человеком мог бы отразиться на его карьере. Власть научила его подчиняться, и он ждал благоприятного случая. Он не мог найти ничего лучшего: юноша, подавленный его престижем, его жена, принужденная надолго уехать из Парижа, если она захочет последовать за своим любовником, а это было вполне вероятно, потому что она была еще молода и любила его; и в конце концов не такой уже громкий скандал благодаря исчезновению героев драмы. Он был уверен в благополучном результате этой партии и выиграл ее без труда.
Через две недели Лекадьё исчез из нашей жизни. Он писал редко, не явился на экзаменационный конкурс ни этого, ни следующего года. Волны, вызванные этим падением уменьшились, исчезли. Пригласительный билет на свадьбу уведомил меня о его женитьбе на госпоже Треливан. Я узнал от товарищей, что он получил степень адъюнкта через одного из главных инспекторов, что он был назначен, «благодаря своим политическим связям», в лицей в Б., — пост, которого многие добивались. Затем я покинул университет и забыл о Лекадьё.
В прошлом году, попав случайно в Б., я из любопытства зашел в лицей, расположенный в старинном аббатстве, в одном из самых красивых во Франции, и спросил у привратника, что стало с Лекадьё. Привратник, человек услужливый и общительный, приобрел некоторого рода педантизм, ведя в атмосфере, насыщенной наукой, журнал недостаточно успевающих.
— Лекадьё? — сказал он мне. — Лекадьё состоит в числе преподавателей этого лицея уж более двадцати лет, и мы надеемся, что здесь же он дождется и отставки… Если вы хотите его видеть, пройдите через парадный подъезд и по левой лестнице спуститесь в школьный двор. Лекадьё, наверное, беседует там с надзирательницей.
— Как? Разве лицей не закрыт на каникулы?
— Да, конечно, но мадемуазель Септимия согласилась брать к себе на дневные часы несколько детей из городских семейств. Директор это разрешил, и Лекадьё ей помогает.
— Вот как! Но ведь Лекадьё женат, насколько мне известно.
— Он был женат, сударь, — сказал мне привратник с укоризненным видом и трагическим голосом. — Мы похоронили госпожу Лекадьё год тому назад, двадцать восьмого января.
«А ведь правда, — подумал я, — ведь ей должно было быть около семидесяти лет… Семейная жизнь этой пары была, должно быть, очень необычна».
И я спросил:
— Она, ведь, была гораздо старше его?
— Сударь, — сказал он мне, — это самое удивительное, что я видел в этом лицее! Госпожа Лекадьё стала сразу старой… Когда они приехали сюда, она была, я не преувеличиваю, как молодая девушка… белокурая, розовая, прекрасно одетая… и гордая. Вы знаете, кто она была такая?
— Да-да, я знаю.
— Да, она была жена председателя совета министров и… вы понимаете, в провинциальном лицее… Вначале она нас очень смущала. У нас здесь царит большое согласие, сударь… Господин директор говорит всегда: «Я хочу, чтобы мой лицей был для нас всех семьей». Когда он входит в какой-нибудь класс, то говорит всегда профессору: «Господин Лекадьё (я называю его имя, как сказал бы — господин Небу или господин Лекаплэн), как поживает ваша супруга?» Но госпожа Лекадьё не хотела ни с кем знакомиться, ни у кого не бывала, даже не отдавала визитов. Поэтому многие делали кислое лицо мужу, и это вполне понятно. Но, к счастью, сам Лекадьё был очень учтив и улаживал все с нашими дамами. Это человек, который умеет нравиться. Теперь на его лекциях в городе присутствует вся аристократия, нотариусы и фабриканты, префект, все… И затем, все вообще устраивается. Его гордячка, даже и та образовалась: в последнее время не было здесь более популярной и более любезной дамы, чем госпожа Лекадьё. Но она стала старой, старой… Она умерла от рака.
— Неужели? — сказал я. — Хорошо, я пройду к Лекадьё.
Я пересек парадный двор. Это были монастырские переходы пятнадцатого века, немного обезображенные слишком многочисленными окнами, сквозь которые виднелись скамьи и потрескавшиеся столы. Налево крытая лестница со сводами спускалась к меньшему двору, обсаженному тощими деревьями. У ее подножия стояли двое: мужчина, спиной ко мне, и высокая женщина с костлявым лицом и жирными волосами, в фланелевом шерстяном платье, под которым твердым кругом вырисовывался корсет — крепость старинного образца. Эта пара, по-видимому, была погружена в оживленную беседу. Проход со сводами, образуя нечто вроде акустической трубы, усиливал звуки, и до меня донесся голос, напомнивший мне с поразительной четкостью площадку лестницы в Нормальной школе. Вот что я услыхал:
— Да, Корнель, может быть, сильнее, но Расин нежнее, мягче. Лабрюйер очень остроумно сказал, что один описывает людей такими, какие они есть, а другой…
Слышать эти пошлые слова, обращенные к такой собеседнице, знать, что они сказаны тем, кто был поверенным моих ранних дум, кто оказал на мою молодость самое сильное влияние, — мне это показалось таким странным и тягостным, что я быстро прошел несколько шагов под сводами, чтобы увидеть того, кто это говорил, в тайной надежде, что я ошибся. Он повернул голову, и я заметил два неожиданных для меня признака: седеющую бороду и лысый череп. Но это был Лекадьё. Он тоже меня сейчас же узнал, и на его лице появилось неопределенное выражение неудовольствия, почти страдания, сменившееся сейчас же ласковой улыбкой, немного смущенной, немного неловкой.
Взволнованный встречей и не желая говорить о прошлом перед этой надзирательницей с внешностью жандарма, я тотчас же пригласил моего товарища позавтракать со мной и назначил ему на двенадцать часов свидание в ресторане, который он мне указал.
Перед лицеем в Б. есть маленькая площадь, усаженная каштанами; я просидел там довольно долго. «От чего зависит, — говорил я себе, — успех или неудача чьего-нибудь существования? Вот Лекадьё, рожденный быть великим человеком, читает каждый год одни и те же отрывки чередующимся поколениям туренских лицеистов и проводит свои каникулы в скучном ухаживании за нелепым чудовищем, в то время как Клайн, удивительный ум, но все-таки не гений, осуществляет в действительности мечту молодого Лекадьё. Отчего? Надо будет, — решил я, — попросить Клайна перевести Лекадьё в Париж».
И, направляясь к Сент-Этьену, прекрасной церкви романского стиля, которую я хотел вновь посетить, я старался представить себе, что могло вызвать такой упадок: «Сразу Лекадьё не мог измениться. Это был тот же человек, тот же ум. Что случилось? Треливан, должно быть, безжалостно держал их в провинции. Он исполнил свои обещания и дал им возможность быстрого повышения по службе, но он закрыл для них Париж… Кое-кому провинция даже благоприятна… Я нашел там свое счастье. У меня были когда-то в Руане профессора, которым провинциальная жизнь придала удивительное спокойствие, хороший вкус, освобожденный от ошибок моды. Но Лекадьё был нужен Париж. В ссылке его стремление к власти должно было привести его лишь к мелким успехам… Быть выдающимся умом в Б. — сильное испытание для человеческого характера. Быть там политическим деятелем? Это очень трудно, если не принадлежишь к местным уроженцам. Во всяком случае, это требует больших усилий: существуют благоприобретенные права, старшинство, нечто вроде иерархии. Для такого темперамента, как этот, вероятно, уныние наступило очень быстро… Одинокий человек еще может вырваться, работать, но Лекадьё был связан с женщиной. После первых месяцев счастья она, наверное, пожалела о своей светской жизни… Можно себе вообразить целый ряд постепенных уступок… Затем она стареет… У него чувственная натура… Здесь бывают молодые девушки, курсы литературы… Госпожа Треливан становится ревнивой… Жизнь превращается в ряд глупых, утомляющих споров… Затем болезнь, желание все забыть, привычка, счастье удовлетворенного тщеславия, которое показалось бы ему смешным в двадцать лет (муниципальный совет, успех у надзирательницы)… А все-таки мой Лекадьё, гениальный юноша, не мог исчезнуть совершенно; должны же были остаться в этом уме следы былых задатков, подавленные, быть может, но до которых можно еще докопаться.