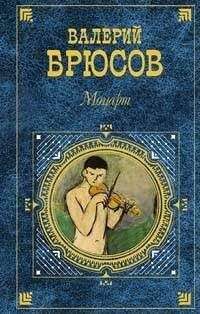Анна Бригадере - Бог, природа, труд
Странная эта графиня. Вроде бы женщина, вроде и нет. Настоящий ли человек графиня, вот что?
Многое на свете совсем не так, как надо. Дядя вот, так он никогда не работает, как другие. И хозяйские дети тоже. Скотину не пасут, зимой все во дворе: работы им никакой не дают, в школу начинают ходить, когда и год их еще не подошел. Хозяйским детям многое дозволено, а для Аннеле все это «грех».
Какой он, этот замок, где граф и графиня живут? Старая Анюс говорит: кресла шелком обиты, стены все в золоте, посуда из фарфора белого, полы глазурью покрыты. Все там блестит-переливается!
Возле замка Аннеле довелось быть, когда чудеса показывали. А в замке-то побывала? Как бы не так!
Ну да ладно, замок он и есть замок. До него дойти можно. Старая Анюс ходила изо дня в день, дядя ходил, и все, кто графу деньги носит. Но граф подолгу дома не живет. Соберет все деньги и уезжает в чужие края, туда, где солнышко все время землю греет, не прячется. Чужие края! Вот это да!
По осени улетают туда перелетные птицы. Никому-никому из наших там не побывать. Туда только граф может уехать, у которого денег куры не клюют. Но все-таки доехать до них можно. Пусть один только граф и может доехать. А вот что там, куда ни дойти, ни доехать? За всеми лесами, за сводом небесным, за тем местом, где солнце встает, за тем, где оно садится? Там то, что никто-никто не видел, никто-никто не слышал!
Можно дойти дотуда, когда умрешь? Там ли нынче старый бобыль Мик, который чуть-чуть пожил в Авотах и зимой умер? Не сам он, конечно, самого его в гроб положили, на погост свезли, а вот куда голос делся его, смех? Пока он думал, он везде был, разговаривал, бранился, и вдруг его не стало! Сколько хочешь жди: вот-вот раздастся Миков голос — не дождешься! Чей хочешь голос услышишь, а Миков никогда; сколько хочешь гляди на дверь и приговаривай: вот, вот сейчас войдет Мик — не дождешься! Там, где положено ему быть, — пусто.
Анюс сказала, что теперь-то уж Мик на небесах. Но не всегда Анюс верить можно. Когда Мик еще живой был, сколько раз говорила она, что он в ад попадет, потому что так и сыплет проклятиями. И все, что о чудесах рассказывала, было совсем не так.
Ругаться-то Мик ругался. Стоит какой собаке под ноги ему подвернуться, так он ее как пнет! Мама говорит, что Мика «работа заела». А ребятишкам ни одного дурного слова не сказал и плохому не учил.
Нет, в ад Мик не попадет. А если господь и захочет, Спаситель не пустит. Спаситель возьмет Мика за руку и долго-долго молиться станет, пока господь ему все грехи не отпустит.
А богу — что ему от того, что Мик в ад попадет? Что для него Миковы грехи? Тому, у кого глаза мерцают, как звезда утренняя, одежда словно солнечное сияние. Окропит он Миковы грехи пучком иссопа, и станут они белые-белые, белее снега. Ведь господь бог всемогущ, господь бог вездесущ.
Но всегда ли вездесущ господь? Вот поутру был, когда в книжку заглядывал. Сердце ее большим стало, весь бы мир обняло; и пылало оно как терновый куст в Моавитской равнине, а сейчас она съежилась, что червяк, заползающий в землю. Бог стоит вдалеке и не зовет ее к себе.
Почему же не тянется больше ее сердце к богу? Потому что теперь она грешница.
Аннеле тяжко вздохнула.
Грешница! Человек зачат и рожден во грехе. Куда ж от греха денешься?
Ходила вот в Лосиный сад, а надо было спать идти, как велели. Ослушалась, значит.
А как всегда слушаться? Уж лучше тогда совсем не жить на свете. Жить-то как? То прыгать и смеяться грех, и по воскресеньям положено читать только слово божье, другую книгу — грешно, а на неделе грешно читать всякие книги — работать положено, в другой раз и не поймешь, что грешно, а что нет. Старая Анюс скажет, бывало, чего, мол, голову ломать, думай не думай, нутро у человека сызмальства порченое, вот и надо искупать зло свое всякий раз.
Злой человек, злой. Так и есть. Глаза щиплет от слез, сердце разорваться готово — так ему тяжко. И обильно поливая сложенные руки слезами, она произносит громко: «Очисть сердце мое, господь, обнови мой дух. Не отвергни от меня лицо твое, не лишай меня своей благодати».
Вот теперь хорошо. На сердце легко-легко стало. Мысли угомонились, попрятались, кто куда. Аннеле обняла колени руками, прикрыла глаза; сквозь ресницы, через маленькую-маленькую щелочку видно, не разбегается ли стадо.
Сидит она, притихла.
Время тянется и тянется, ползет как улитка.
Вдруг из-за леса доносится глухой рокот, прокатывается по лесу, летит за горы, грохочет за горами, за полем, затухая вдали.
Аннеле открывает глаза. Прислушивается: гроза?
«Нет. Приснилось, видно». Но вдруг почудилось ей, что горы и деревья, цветы и травы затаились, словно ждут чего-то. Тихо-тихо становится. Все замирает. Аннеле прижимается щекой к коленям.
Снова загрохотало — на этот раз сильнее. Лес вздрогнул, закачался, загудел — словно грозный зверь проснулся.
Аннеле вскочила, отбежала подальше от кромки леса и посмотрела вверх. Гроза, гроза! Уже тут! Небо за лесом заволокло черными громадами туч с прозрачными серыми кромками. Солнце тонет в них, вонзая в тучи добела раскаленные лезвия. Сверкает молния. Аннеле начинает считать — далеко ли гроза, но путается; сердце прямо в ушах стучит, сбивает. Не успевает и до шести сосчитать, как грохочет снова, и небо раскалывается пополам.
Воздух рокочет. Лес освещен белесоватым светом, листья повисли, ни травинка не шелохнется. Рычание гулким эхом прокатывается по замершему лесу, во весь опор мчится к ней; ржаво-белые пенистые клочья облаков растекаются по свинцовым грудам туч.
«Ой! Вон она, вот! Над самой головой!» — вскрикивает Аннеле, а сама словно приросла к земле.
Завывая, выкручивая деревья, налетает на лес ураган, срезает вершины, и те с треском валятся на землю. Аннеле и глазом моргнуть не успела, а в лесу уж полно бурелома. Тучи рычат над головой, заглушают вой урагана.
И вдруг в лесу зазвенело, засвистело, дробно застучало, словно речная галька рассыпалась по огромному листу жести.
«Град, град!» — шепчет Аннеле и, сжав кулачки, бросается, не помня себя, в ту сторону, где должны быть свиньи. Но их давно и след простыл. «Домой, домой!»
Но куда бежать? Вокруг, куда ни глянь, мутная завеса дождя. Огромные градины, даже кусочки льда секут Аннеле по спине, плечам, шее, ладошками она пытается прикрыть голову, бежит наобум в сторону дома, как вдруг мутная пелена прямо перед глазами озаряется ослепительным зигзагом, и она падает на землю.
Очнулась Аннеле от нового удара грома. Зубы у нее стучат, руки и ноги онемели; шевельнула одной ногой — на месте, шевельнула другой — эта тоже двигается.
«Вытерплю, вытерплю, что бы ни было! Не убьет, не убьет!» — твердит она, успокаивая себя, вскакивает и мчится дальше.
И тут из пенящихся, бурлящих потоков дождя выныривает человек в рубахе, с непокрытой головой. Отец.
Молча подхватывает он Аннеле, сажает на плечи и шагает по клокочущей воде, загребая ногами, словно веслами.
Только вошли в избу, вокруг сразу же натекла огромная лужа. Куда ни встанут, от них тут же ручейки разбегаются в разные стороны. Зашла в избу бабушка, на голову наброшено толстое одеяло — свиньи по огороду разбежались, с трудом в хлев загнала.
Аннеле даже в жар бросило. «Вот тебе и помощница! — слышится ей. — Не доглядела!»
И вот лежит она уже в постели, все на ней сухое, только глаза мокрые.
— Отчего глаза мокрые? — спрашивает мама. — Сильно градом побило?
— Побило.
— Больно так, что ли?
— Не-а.
— Так что ж плачешь?
Молчит Аннеле.
— Сильно испугалась?
— Испугалась.
— Оттого и плачешь?
— Не-а. Стану я от этого плакать!
— Так чего нюни распустила? — уже строго спрашивает мать. И Аннеле выталкивает сквозь рыдания: «Не досмотрела! Не досмотрела!»
Мать треплет Аннеле по голове, смеется.
— Что ты, глупышка! Вся в синяках, а туда же — не досмотрела! Тут и взрослый бы не справился.
В комнате тихо и прохладно, как и утром. Нигде и мышка не зашуршит. Аннеле смотрит на солнце — оно теперь заглядывает в окно на другой половине избы. Только что груша стояла вся в красных полосах света, алело поле молодого клевера, и вот все погасло. Солнце словно тонет в земле — вот половина осталась, вот край — краешек — два длинных-длинных золотых луча…
Два золотых луча зацепились за ресницы и повисли на них.
В ПРЕДЧУВСТВИИ ДОРОГИ
Понятие о времени пришло к Аннеле только в Авотах. До этого глаза застилала розовая мгла, из которой, словно золоченые шпили башен, выплывали мгновения, миги, переливались, мерцали невиданным светом и гасли. Но стоило приехать в Авоты, время словно привязало нить от своего огромного клубка к последнему придорожному столбу и давай из него разматывать дни и ночи, зимы и весны, недели и месяцы, месяцы и годы. Время то летело на крыльях, то с места не двигалось, как лентяй-лежебока. Но если уж заберет что-нибудь, больше ни за что не отдаст, кого уведет, тот уж не возвращается.