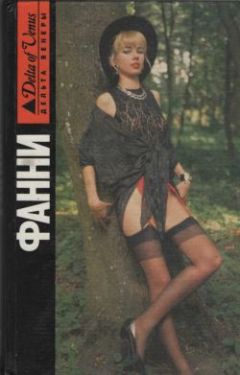Альфонс Доде - Сафо
Не стану, милый мальчик, томить тебя подробным изложением этой мрачной истории. Короче говоря, в понедельник утром малюток привели к нам батраки твоего дяди, которые работают на острове; нашли они их на куче хвороста; обе были бледные-бледные от голода и от холода – ведь они ночевали под открытым небом, у реки. Вот что сами девочки рассказали нам со всей своей младенческой бесхитростностью… Уже давно им не давала покоя мечта поступить так, как поступили их покровительницы Марфа и Мария, а житие этих святых девочкам читали: они решили отправиться в лодке без парусов, без весел, не захватив с собой еды, и на том берегу, куда их занесет дух божий, начать проповедовать Евангелие. И вот в воскресенье после обедни они отвязали рыбачью лодку и стали в лодке на колени, как святые Марфа и Мария, – течение их относит все дальше и дальше, а они себе спокойно стоят на коленках в лодке, и в конце концов, несмотря на половодье, сильный ветер и воронки в реке, их прибило к заросшему камышом острову Пибулет… Да, господь бог сохранил наших ангельчиков и возвратил нам их! Вот только праздничные переднички у них смялись да золотой обрез на молитвенниках попортился. У нас не хватило духу журить их, мы могли только обнимать их и крепко-крепко целовать, но потом мы просто заболели от всего, что нам пришлось пережить.
Тяжелее всех переживает до сих пор временную пропажу малюток твоя мама; мы ничего ей не рассказали, а она уверяет, будто почувствовала, как над Кастле прошла смерть, и с той поры она, такая всегда спокойная, веселая, все грустит, и ничто эту грусть не может рассеять, хотя все мы – и твой отец, и я, и другие домашние – окружаем ее заботой и лаской… А пишу я об этом, Жан, потому, что скучает и тоскует она по тебе. Она не решается заговорить об этом при твоем отце – отцу не хочется отрывать тебя от занятий, – но ведь ты обещал приехать после экзаменов и не приехал. Сделай нам сюрприз – приезжай к Рождеству, и на лице у нашей бедной больной вновь появится ее добрая улыбка. Поверь мне: когда старики уходят из жизни, как потом жалеешь, что не побыл с ними!..»
Стоя у окна, в которое лениво сочился свет туманного зимнего утра, Жан читал письмо и вдыхал вместе с его деревенским ароматом дорогие ему воспоминания детства, пронизанные материнской лаской и лучами солнца.
– О чем тебе пишут?.. Покажи!..
Фанни разбудил желтый свет, проникший в комнату, как только Жан отдернул занавеску, и она, с отекшим от сна лицом, машинально потянулась к пачке мэрилендского табаку, всегда лежавшей на ночном столике. Зная, что одно имя Дивонны вызывает у Фанни припадок ревности, Жан заколебался. Но ведь письмо не спрячешь, тем более что Фанни по формату бумаги могла догадаться, откуда оно.
Фанни, с голыми руками и голой грудью, оперлась локтем на подушку и, набивая папиросу, расплескав по плечам каштановые волны волос, принялась за чтение. Вначале история бегства девочек забавляла Фанни, но конец письма привел ее в бешенство: она разорвала письмо и разбросала клочки по всей комнате.
– Ох уж эти «святые женщины»! Все она выдумала, только чтобы вызвать тебя… Красивого племянничка недостает этой…
Ему не удалось остановить Фанни – похабное слово сорвалось у нее с языка, а вслед за ним непристойности посыпались градом. Никогда еще не доходила она при нем до такого бесстыдства, никогда еще не обрушивала на него такого яростного потока мутной злобы, зловонных нечистот, хлынувших как бы из лопнувшей трубы. Весь жаргон ее прошлого – прошлого озорной уличной девки – клокотал у нее в горле и раздирал ей рот.
Только дурак не сообразит, что они там затевают… Сезер проболтался, и они на семейном совете решили заставить Жана разорвать связь, заманить его домой, а для наживки – на что же лучше Дивонна с ее ладным покроем!
– Но только имей в виду: если ты уедешь, я напишу этому рогоносцу… Я его предупрежу… Да уж, будь благонадежен!..
Мертвенно-бледная, с осунувшимся мгновенно лицом, отчего все черты ее стали резче, она злобно напружилась, точно хищный зверь, приготовившийся к прыжку.
Госсен вспомнил, что он видел ее именно такой на улице Аркад, но сейчас ее рыкающая ненависть была направлена против него, и ненависть эта вызывала в нем желание броситься на свою любовницу и избить ее: в плотской любви нет места для почтения и уважения к любимому существу, вот почему она будит в человеке зверя, все равно, охвачен он гневом или порывом страсти. Жан не мог поручиться за себя; он счел за благо шмыгнуть в дверь и пойти на службу, и по дороге он осыпал себя упреками за ту жизнь, какую он сам себе создал… В другой раз не связывайся с такого сорта женщинами!.. Какое безобразие, какая мерзость!.. От нее всем досталось: и его сестренкам, и матери… Скажите пожалуйста: он не смеет даже навестить родных! Да это хуже всякой тюрьмы! Перед его мысленным взором прошла вся история их близости: он видел, как прекрасные голые руки египтянки обвились вокруг его шеи в вечер бала, как они потом вцепились в него, сильные, властные, и отдалили от друзей, от семьи. Но сейчас его решение непреклонно. Вечером он во что бы то ни стало уедет в Кастле.
Сбыв с рук кое-какие дела и взяв в министерстве отпуск, он пришел домой рано, – он был уверен в неизбежности скандала, он был готов ко всему вплоть разрыва. Но Фанни ласково с ним поздоровалась, в глазах у нее стояли слезы, щеки ее словно обмякли от слез – все это поколебало его решимость.
– Я уезжаю вечером… – переборов себя, сказал он.
– Ты прав, дружочек: тебе надо повидаться с матерью… А главное… – ластясь к нему, добавила она, – забудь мою вспышку! Это все от любви к тебе, я же тебя люблю до безумия!..
С кокетливой заботливостью она принялась укладывать его вещи, все время до отъезда была с ним нежна, как в первые дни, и, быть может, для того, чтобы удержать его, ничем не нарушала своего покаянного настроения. Она ни разу не попросила его: «Останься!» В последнюю минуту, когда сборы были окончены и всякая надежда утрачена, она приникла, она прильнула к своему возлюбленному, как бы стремясь пропитать его собой на все время путешествия, на все время разлуки, но прощальный ее поцелуй и прощальный ее шепот выражал одно:
– Ты на меня не сердишься, Жан?..
О, какое счастье проснуться утром в своей маленькой детской, ощущая в сердце еще не остывший жар родственных объятий, радостных излияний, без которых не обходится приезд близкого человека, увидеть на том же месте, на противомоскитной сетке, натянутой над его узкой кроватью, полосу света – первое, что он видел в детстве, когда просыпался, услышать крик павлинов, сидящих на жердочках, скрип колодезного журавля, дробный стук копыт спешащего на выгон стада, распахнуть ставни так, чтобы они ударились об стену, и увидеть вновь, как прекрасный теплый солнечный свет, словно прорвав плотину, вливается в окно и стелется пеленами по комнате, увидеть вновь пленительные дали – поднимающиеся уступами виноградники, кипарисы, оливы, отсвечивающий на солнце сосновый лес, тянущийся до самой Роны, и надо всем этим – глубокое чистое небо, без единой пушинки облака, несмотря на ранний час, свежее небо, которое всю ночь овевал мистраль, и сейчас наполняющий необъятную равнину своим бодрым и мощным дыханием.
Жан сравнил нынешнее свое пробуждение с пробуждениями под парижским небом, таким же нечистым, как его, Жана, любовь, и почувствовал себя счастливым и свободным. Он вышел на террасу. Белый от солнца дом еще спал – все его окна были закрыты, как глаза у спящего человека. Жану хотелось побыть одному и опомниться, хотелось насладиться тем душевным возрождением, первые признаки которого он ощущал в себе.
Сойдя с террасы, он пошел вверх по аллее так называемого парка – на самом деле это была там и сям разбросавшая деревья по крутому склону горы Кастле сосновая и миртовая роща, прорезанная неодинаковой длины тропинками, скользкими от сухих иголок. Пес Чудодей, старый, хромоногий, вышел из конуры и молча последовал за Жаном – в былые времена они часто совершали вдвоем утреннюю прогулку.
При входе на виноградник, где ограждавшие его высокие кипарисы покачивали своими остроконечными вершинами, пес заколебался: он знал, что толстый слой песка – новое средство борьбы с филлоксерой, которое решил испробовать консул, – для его старых лап представляет не меньшие неудобства, чем ступеньки террасы. Однако блаженство идти за хозяином взяло в нем верх, и тут начались мучительные усилия при каждом новом препятствии, боязливые взвизгивания, остановки и неуклюжие движения, похожие на движения краба, ползущего по скале. Жан не обращал на него внимания: он был весь поглощен рассматриванием нового питомника «аликанте», о котором отец долго рассказывал ему накануне. Лозы, окутанные слежавшимся сверкающим песком, как видно, принялись отлично. Наконец-то бедный отец будет вознагражден за свой упорный труд! Кастле, может быть, еще и оживет, а Нерт, Эрмитаж – все лучшие виноградники юга погибли!