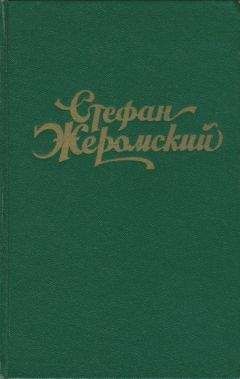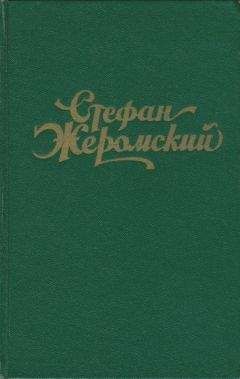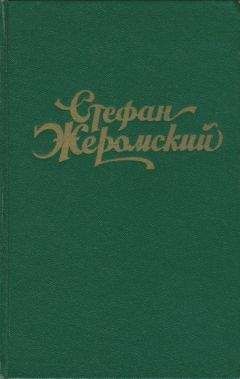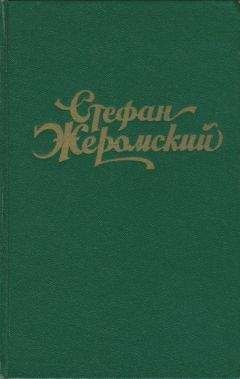Стефан Жеромский - Сизифов труд
В то время как советник Сомонович говорил это, Кароль Пшепюрковский стал громче шмыгать носом и сделал такую мину, словно собрался заговорить.
Советник глянул на него раз, другой и порывисто сказал:
– Да говорите же, черт побери! Ждем, слушаем!
Пан Кароль еще раз шмыгнул носом и, ничего не сказав, сел на свое место.
Тут советник впал в подлинное неистовство.
– Желая истребить врага, засевшего в нас самих, мы должны начать с основания, с корня, вот с этакого сопляка! – кричал он, хватая Марцинека за ухо и вытаскивая его на середину комнаты.
– Оставьте-ка, сударь, мальчика в покое! – заступилась за Марцинека «старая Перепелица». – Политика политикой, а что касается ушей, то нет никакого резона обрывать их понапрасну.
Советник сунул в рот целых три конфетки, задрал голову вверх, заложил руки за спину и быстро засеменил по комнате.
– Да, да!.. – сказал Гжебицкий. – Когда мы приступали к своим служебным обязанностям… О чем говорить! Поверите ли, благодетельница, у меня в ушах до сих пор звучит, да еще как звучит, приветственный марш на въезд его величества, когда он соблаговолил прибыть в Варшаву на коронацию в тысяча восемьсот двадцать девятом году…[14]
Маленький советник вскочил, выпрямился, крепко оперся руками о стол и, зорко всматриваясь в пани Борович, стал громко насвистывать этот марш.
Сомонович, продолжая прогуливаться по комнате, вторил ему свистом, вернее посапыванием в такт.
Марцинек, которого это представление заинтересовало гораздо больше, чем все предшествовавшие ему рацеи, вдруг с глубоким изумлением заметил, что из глаз советника, насвистывающего первым голосом, капают крупные слезы и со стуком падают на клеенку стола.
– Да что марш! – воскликнул Сомонович. – Помню… впрочем, я уж много раз вам говорил, что сказал мне сиятельный князь…
– Любецкий… – шепнул пани Борович в виде пояснения советник Гжебицкий, отирая заплаканные глаза.
– Что сказал мне сиятельный князь… разумеется, Любецкий, Друцкий-Любецкий,[15] когда этот шут гороховый Морусек Мохнацкий[16] очутился в прихожей князя, умоляя скрыть его от черни, которую он непрестанно, с самого начала подстрекал к беспорядкам и которая в конце концов гналась за ним по улицам, чтобы повесить, как собаку. Сиятельный князь заплакал и, положив мне руку на плечо, молвил такие слова: «Сомонович, ты еще юноша и лишь вступаешь в жизнь. Я с тобой говорю не как с канцеляристом, но как с мужчиной и гражданином. Вот я принял в свой дом и спрятал от черни врага нации Мохнацкого. Знаешь ли ты, говорил мне князь, что этот негодяй шел во главе солдат, чтобы расстрелять меня. И гляди, как господь бог опрокинул его намерения: минуту назад тот же Мохнацкий стоял передо мной на коленях, пригнанный к моему порогу перстом божьим. Запечатлей же в своем сердце этот урок и всеми силами борись с дьяволом, слугами которого являются вот этакие Мохнацкие…»
– Эх! Да вы, господин советник, чертовски преувеличиваете! – выпалила вдруг «старая Перепелица». – Конечно, такие люди… кто их знает… ну, да вы в этом лучше разбираетесь, чем я. Но есть же, черт возьми, и другие враги! Когда мой Игнаций…
– Муравьев,[17] например! – прошипела панна Констанция.
– Оставьте, сударыня, это дело, оставьте, – величественно сказал Сомонович. – Человека, имя которого вы произнесли, господь призвал к себе. Если душа человеческая бессмертна, а у вас, сударыня, нет ни малейшего повода сомневаться в этой истине, ибо все говорит за нее, то душа этого человека претерпевает такие муки, которых смертный разум и охватить не в силах. За слезы, пролитые на земле, за невинную кровь, за обиды, нанесенные не во имя закона, не во имя власти, но во имя самих только обид и слез. Впрочем, я не хочу об этом говорить, ни за какие сокровища не хочу об этом думать. Оставьте меня в покое! Я не желаю об этом слышать. Вот что я вам повторяю без конца, с сотворения мира…
– Господи Исусе Христе! – воскликнул Гжебицкий. – Советник Сомонович хочет уверить нас в том, что он наставляет общество на путь истины с сотворения мира!
Пока советники обсуждали вопросы большой политики, мысли пани Борович, с виду внимательно прислушивавшейся к их спору, витали далеко-далеко. Перед нею проносились какие-то смутные картины, какие-то тени и видения, образующие как бы сцены и события из будущей жизни Марцинека. Когда она пыталась удержать их глазами и мыслями, они исчезали… Мохнацкий, преследуемый чернью, которая хочет повесить его, как собаку… «Кто он такой, этот Мохнацкий? Ах да, тот самый, – думала она, погружаясь душой в какое-то зрелище, полное народа, крика, бряцания оружия. – Муравьев? Кто это Муравьев?» И вдруг сердце ее перестало биться. Умирало, как живое существо, пронзенное кинжалом убийцы.
V
Низкая полуразрушенная ограда, поросшая травой и мхом, представляла собой границу двора. За оградой, в некогда выложенном камнями русле, струился канал. С течением времени многие камни сдвинулись, упали в воду и увязли в вонючем иле, осевшем на дне, а на берегах буйно разрослись кусты и болотные травы.
За рвом тянулся чей-то парк, растущий на болотистой почве, до того запущенный, что мог бы изображать маленькие джунгли, где еще не ступала нога человека и где живут лишь птицы.
По эту сторону стены стоял сарай и чрезвычайно легкомысленно построенные дровяные склады. Около сарая лежало несколько старых, обожженных и полусгнивших балок, о существовании которых, наверно, не помнили ни хозяева, ни воры. Об этом позаботились крапива и репейник, росшие кругом.
На этих-то бревнах и просиживал Марцинек все послеобеденные часы с начала учебного года, зубря уроки. Огромные деревья заглохшего парка, старые вербы с бесчисленным количеством свисающих к земле веточек, напоминали ему о деревне, о доме и матери.
Он учился прилежно, с возвышенной убежденностью, которой не коснулись еще ни сомнения, ни недоверие, ни какой-либо расчет или жульничество.
Из священной истории или закона божия он вбивал себе в память все, начиная с заголовка главы и вплоть до последнего ее слова. Он садился на бревно, обхватывал руками голову и повторял вслух заданное до тех пор, пока не выучивал до такой степени совершенства, что у него пересыхало в горле и мутилось в голове. По-другому обстояло дело с арифметикой и русским. По обеим этим наукам приходилось готовить уроки с репетитором, который говорил и объяснял их по-русски, равно как и Маевский в классе.
Из этих уроков Марцинек не только не извлекал никакой пользы, но, наоборот, все больше глупел и мучился. И дома и в школе ему непрестанно твердили о числах с бесконечным количеством нолей, заставляли совершать с этими числами какие-то манипуляции и притом объясняли все самым лучшим образом, на чистейшем русском языке, с правильными ударениями, можно сказать разжевывали и в рот вкладывали, а между тем Марцинек мертвел от страха, смутно сознавая в глубине души, что не понимает, о чем идет речь.
Устные уроки по русскому языку тоже обязательно готовились в присутствии репетитора ради достижения неслыханного совершенства выговора.
Таким образом, на бревнах Марцинек выучивал только «закон божий», ибо четвертый предмет – польский язык – не причинял никаких затруднений, поскольку по этому предмету вообще ничего не задавали. Репетитор, живший на квартире у «Перепелицы», Виктор-Альфонс Пигванский, ученик седьмого класса, был гимназическим, а за отсутствием других, и общеклериковским поэтом. Это был худощавый, испитой юноша, прыщеватый, всегда небрежно одетый и пытавшийся, несмотря на строгие гимназические наказания, отпустить длинные волосы. Он выкуривал бесчисленное количество папирос, из-за чего, вероятно, его и прозвали «Пифией» (однако почему его прозвали также «Жидовкой» – трудно постичь).
«Пифия» учился хорошо, но все же не так, как можно бы ожидать, судя по его способностям.
– Пигванский… – говаривала приятельницам «старая Перепелица», – о, у него голова светлая, для всего открытая, но что поделаешь, когда в нее, вроде воза сена, въехала поэзия. И ни туда ни сюда, только и знает, что кропать стихи!
Чтобы добиться репутации рассеянного, которая пришлась ему чрезвычайно по вкусу, поэт зачастую проявлял нарочитую небрежность, забывал о своих вещах, о книгах, тетрадях. Часто он нарочно оставлял дома тетрадь с тригонометрическими задачами, сочинением по русскому языку, по латыни, или же с греческими упражнениями, все ради того, чтобы подтвердить свою поэтическую рассеянность. Стихи он писал непрерывно и прямо-таки молниеносно. И во всех этих произведениях, какими бы названиями или эпиграфами они ни снабжались, поэт при помощи несметного числа русицизмов и при соучастии изрядного количества чисто польских орфографических ошибок оплакивал собственную смерть, воспевал свое погребение либо рисовал мрачный пейзаж со своей могилой в глубине и с луной, прятавшейся за черными тучами. Мысли и чувства, фон и аксессуары, ритм и сравнения в этих произведениях были без стеснения заимствованы из Пушкина и Лермонтова. Если не считать отчаяния по поводу собственной безвременной кончины, поэт иной раз черпал вдохновение разве только еще в любовных чувствах, которые время от времени изливались з очередной элегии или идиллии. Кто был предмет его страсти, было непостижимо, если рассматривать вопрос в свете его поэтического творчества, ибо раз он изнемогал от восторга и жаждал смерти из-за некиих «золотых кудрей», а страницей дальше – из-за «черноокой, чернобровой, с каскадом черных колец».