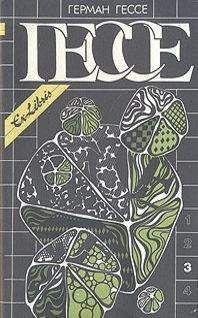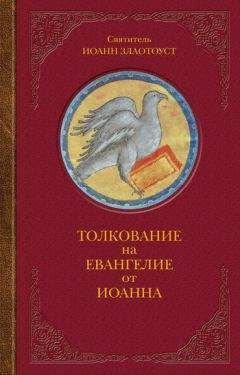Герман Гессе - Нарцисс и Златоуст
— Нарцисс! Прости, прости, милый, что потревожил тебя, это не просто шалость. Я знаю, что сейчас ты не должен разговаривать со мной, но сделай это, очень прошу тебя.
Нарцисс пришел в себя и на какое-то мгновение резко зажмурился, будто с трудом стряхивая сон.
— Это необходимо? — спросил он едва слышно.
— Да, необходимо. Я пришел, чтобы проститься с тобой.
— В таком случае необходимо. Просто так ты бы не пришел. Проходи, садись рядом. Через четверть часа начинается первая вегилия.
Он выпрямился и сел на голых нарах; Златоуст присел рядом с ним.
— Прости меня! — сказал он виновато. Келья, голые нары, строгое, напряженное лицо Нарцисса, его полуотсутствующий взгляд — все ясно говорило Златоусту, насколько он здесь некстати.
— Не стоит извинений. Не обращай на меня внимания, со мной все в порядке. Так ты говоришь, что пришел проститься? Стало быть, ты уходишь?
— Да, уже сегодня. Ах, мне трудно тебе рассказать. Все решилось так внезапно.
— Приехал твой отец или ты получил весточку от него?
— Да нет же. Сама жизнь явилась ко мне. Я ухожу без отца, без разрешения. Послушай, убежав, я навлеку на тебя позор.
Опустив голову, Нарцисс смотрел на свои длинные белые пальцы, тонкие, как у привидения, они выглядывали из широких рукавов рясы. На его строгом, очень усталом лице не было улыбки, она почудилась в голосе, когда он произнес:
— У нас очень мало времени, милый. Скажи мне только самое необходимое, коротко и ясно. Или, может, мне сказать, что с тобой произошло?
— Скажи, — попросил Златоуст.
— Ты влюбился, малыш, ты познал женщину.
— Как ты узнал об этом?
— Ты сам облегчил мою задачу. Твое состояние, друже, отмечено всеми признаками того опьянения, которое называется влюбленностью. А теперь говори, прошу тебя.
Златоуст робко положил руку на плечо друга.
— Ты уже сказал. Но на сей раз сказал нехорошо, неправильно. Все было совсем не так. Я был в поле за монастырем, заснул на жаре, а когда проснулся, моя голова лежала на коленях красивой женщины, и я сразу почувствовал, что это пришла моя мать, чтобы взять меня к себе. Нет, я не считал эту женщину своей матерью, у нее были темно-карие глаза и черные волосы, моя мать была белокурой, как и я, и выглядела совсем не так. И все же это была она, это был ее зов, весточка от нее. Словно из грез моего собственного сердца возникла вдруг красивая чужая женщина, положила мою голову к себе на колени, улыбнулась мне, как цветок, и была ласкова со мной; уже во время первого ее поцелуя я ощутил, как что-то плавится во мне и причиняет странную боль. Все желания, когда-либо испытанные мной, все мечты, все сладостные страхи, все тайны, дремавшие во мне, разом проснулись, все преобразилось, обрело очарование и смысл. Она показала мне, что такое женщина и какие у нее есть тайны. За эти полчаса, проведенные с ней, я стал на много лет старше. Теперь я много знаю. Совершенно неожиданно мне стало ясно и то, что я не останусь больше в монастыре ни на один день. Я уйду, как только наступит ночь.
Нарцисс слушал и кивал.
— Все случилось внезапно, — сказал он, — но это примерно то, чего я ожидал. Я буду много о тебе думать. Мне будет тебя недоставать, друже. Могу я что-нибудь для тебя сделать?
— Если сможешь, скажи несколько слов нашему настоятелю, чтобы он не проклял меня окончательно. Он здесь единственный, кроме тебя, чьи суждения обо мне для меня небезразличны. Он и ты.
— Я знаю… Есть еще просьбы?
— Да, еще одна. Когда будешь позже вспоминать обо мне, помолись за меня! И… спасибо тебе.
— За что, Златоуст?
— За твою дружбу, за твое терпение, за все. И за то, что согласился сегодня выслушать меня, хотя это для тебя нелегко. И за то, что не пытаешься меня удержать.
— С какой стати мне тебя удерживать? Ты же знаешь, что я об этом думаю… Но куда ты пойдешь, Златоуст? Есть ли у тебя какая-нибудь цель? Ты идешь к той женщине?
— Да, я ухожу к ней. Цели у меня нет. Она чужая, кажется, бездомная и, судя по всему, цыганка.
— Ну ладно. Но скажи, милый, известно ли тебе, что твой путь с ней, скорее всего, будет очень коротким? Мне кажется, тебе не следует слишком на нее полагаться. У нее могут оказаться родственники или муж; кто знает, как там тебя примут.
Златоуст прильнул к другу.
— Я знаю, хотя пока еще не думал об этом. Я уже говорил тебе: цели у меня нет. Я ухожу к ней, но не из-за нее. Я ухожу, потому что пришла пора, потому что слышу зов.
Он умолк и вздохнул, они сидели, прижавшись друг к другу, грустные и все-таки счастливые своей несокрушимой дружбой.
— Не думай, что я совсем ослеп и ни о чем не догадываюсь, — продолжал Златоуст. — Нет. Я ухожу с радостью, ибо чувствую, что так и должно быть, и потому, что сегодня я изведал нечто чудесное. Но я не думаю, что меня ждут сплошные удовольствия и счастье. Я думаю, мой путь будет трудным. Но я надеюсь, что и прекрасным. Как хорошо принадлежать женщине, отдаваться ей! Не смейся надо мной, если то, что я говорю, звучит глупо. Видишь ли, любить женщину, отдавать себя ей, погружаться в нее и чувствовать, как она погружается в тебя, — это не то, что ты называешь влюбленностью и над чем посмеиваешься. Смеяться тут не над чем. Для меня это путь к жизни и путь к смыслу жизни… Ах, Нарцисс, я должен с тобой расстаться! Я люблю тебя, Нарцисс, и благодарен тебе, что сегодня ты пожертвовал для меня своим сном. Мне нелегко уходить от тебя. Ты меня не забудешь?
— Не терзай свое и мое сердце! Я никогда тебя не забуду. Ты вернешься, я прошу тебя об этом и жду этого. Когда тебе будет плохо, приходи ко мне или позови меня… Прощай, Златоуст, и да пребудет с тобой Господь!
Он встал. Златоуст обнял его. Зная, что его друг стесняется проявления чувств, он не поцеловал его, а только погладил его руки.
Наступила ночь, Нарцисс закрыл за собой келью и пошел в церковь, его сандалии стучали по каменным плитам. Любящим взором провожал Златоуст сухощавую фигуру друга, пока он не растворился, как тень, в конце коридора, поглощенный мраком церковных ворот; его притягивали и требовали к себе бдения, обязанности и добродетели. О, каким удивительным, каким бесконечно странным и сложным было все это! Как удивительно и страшно было и это: с переполненным сердцем, в опьянении любовью прийти к другу в тот самый час, когда он, погруженный в медитацию, истощенный постом и бдением, распинал свою юность, свое сердце и свои чувства на кресте и приносил их в жертву, подчиняя себя строжайшей школе послушания ради служения духу и ради того, чтобы окончательно стать minister verbi divini[2]. Только что он лежал смертельно усталый и угасший, с бледным, как у мертвеца, лицом и худыми руками, но все-таки сразу все понял, вошел в положение влюбленного друга, еще овеянного благоуханием женщины, и выслушал его, пожертвовал своим коротким отдыхом между двумя покаянными молитвами! Странно и удивительно прекрасно, что есть и такая любовь — самоотверженная и одухотворенная. Как же отличается она от той любви, что случилась сегодня на залитом солнцем поле, от той пьянящей и безрассудной игры чувств! И все же и то и другое было любовью. Ах, а теперь вот и Нарцисс оставил его, ясно показав ему в этот последний час, сколь различны они оба, как непохожи друг на друга. Сейчас Нарцисс устало стоял на коленях перед алтарем, подготовленный и просветленный к ночи, исполненной молитв и медитации, к ночи, в течение которой ему разрешалось не больше двух часов отдыха и сна, в то время как он, Златоуст, убегает, чтобы где-то поддеревьями найти свою Лизу и снова заняться с ней сладостными, звериными играми! Нарцисс знал бы, что сказать по этому поводу. Только он, Златоуст, не Нарцисс. Не его это дело — разгадывать эти прекрасные и жуткие загадки, разбираться в хитросплетениях чувств и говорить об этом умные слова. Его дело — идти своими неизведанными, безрассудными дорогами, дорогами Златоуста. Его дело — отдаваться и любить, любить молящегося в ночной церкви друга не меньше, чем красивую горячую молодую женщину, которая ждет его.
Когда, растревоженный множеством противоречивых чувств, он проскользнул под липами во дворе к выходу через мельницу, то невольно улыбнулся, вспомнив вдруг тот вечер, в который он вместе с Конрадом этим же тайным путем выбрался из монастыря, чтобы «сходить в деревню». С каким волнением и затаенным страхом решился он тогда на эту запретную вылазку, а теперь он уходил навсегда, уходил еще более запретными и опасными путями и при этом не испытывал страха, не думал о привратнике, о настоятеле, об учителях.
На этот раз через ручей не были перекинуты доски, пришлось перебираться так. Он снял с себя одежду, перебросил ее на другой берег, затем, погрузившись по грудь в холодную воду, перешел нагишом через глубокий, бурлящий поток.
Пока он одевался на другом берегу, мысли его снова вернулись к Нарциссу. Изрядно пристыженный, он ясно понял, что делает сейчас именно то, что предсказал ему Нарцисс и к чему подвел его. Он с поразительной ясностью снова увидел того умного, немного насмешливого Нарцисса, которого он заставил выслушать столько всяких глупостей, того, кто когда-то в решающий час открыл ему глаза, невзирая на причиненную боль. Слова, сказанные тогда Нарциссом, он отчетливо слышал и сейчас: «Ты спишь на груди у матери, я бодрствую в пустыне. Твои мечты о девушках, мои — о юношах».