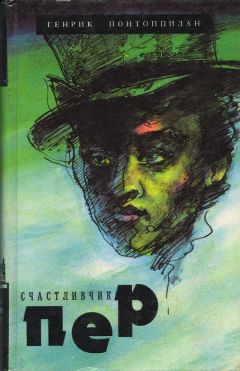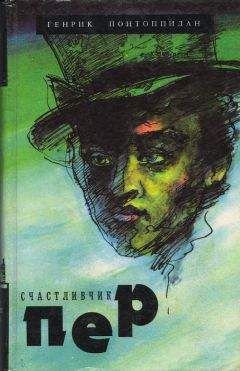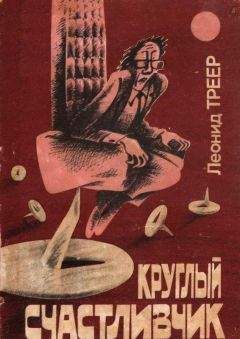Генрик Понтоппидан - Счастливчик Пер
Живое подтверждение прочитанного встретил Пер в приходе своего собственного тестя. На окраине Бэструпа, в аккуратном, чисто выбеленном домике, жил сапожник с семьей. Жили они замкнуто и не искали сближения с прочими обитателями поселка. Сам хозяин раз или два в году ездил в городок, нагрузив полный воз своими изделиями, и там продавал их в обувные лавочки. Все остальное время он проводил под крышей собственного дома, над дверью которого красовалась надпись: «Дом мой и сам я суть слуги господни».
Однажды, когда Пер вербовал на лето опытных плетельщиков фашин и колесил по всей округе, он неожиданно наткнулся на жилище сапожника и заглянул к нему. В первой комнате у колыбели сидела молодая женщина, двое малышей тихонько играли на полу. Дверь в мастерскую была открыта, там верхом на верстаке сидел сам хозяин и кроил кожу. Увидев Пера, он со смущенным видом вышел к нему. Это был мужчина средних лет, высокий, чуть сутулый. Его бледное безбородое лицо и взгляд исподлобья не понравились Перу. Немногим лучше показалась ему и хозяйка; она почти враждебно косилась на него из своего угла. Правда, хозяин пригласил его сесть, но без особого радушия. От предложения поработать летом в качестве плетельщика он отказался, не раздумывая и наотрез, так что упрашивать его было бесполезно. Но Пер ушел не сразу. Что-то в этой мирной семейной картине тронуло его, несмотря на неприветливость хозяев. Комната блистала чистотой, а это не часто встретишь в крестьянских домах, и вообще все выглядело так, словно хозяева с минуты на минуту ожидали прихода важных гостей. Здесь поистине жили в страхе божьем — не таком, который помог двум людям до основания переделать собственную природу. Даже в том, как отец во время разговора взял на колени ребенка и вытер ему пальцем нос, была необычная, чуть торжественная нежность, отнюдь не казавшаяся смешной.
У Бломбергов Перу рассказали, что семейство сапожника входит в религиозную секту, члены которой сами себя называют «святыми» и которая за последнее время чрезвычайно разрослась. Тесть без обиняков обозвал их ханжами и заявил, что их пребывание здесь — позор для всей общины.
Отныне всякий раз, когда Пер читал о сапожном подмастерье Оле Хенрике Сване, или Кристене Массене с острова Фюн, или о других проповедниках из мирян эпохи религиозного Возрождения, перед его глазами вставал маленький, тихий, словно готовый к приему гостей домик на окраине Бэструпа. Большинство тех священнослужителей, чьи имена чаще всего встречались на страницах книг, Пер знал еще по рассказам отца, двое из них даже доводились ему дальней родней. Благодаря этому страницы книги словно оживали перед его глазами, а литературные образы облекались плотью и кровью.
Одновременно Пер пришел к печальному выводу. Сравнивая несокрушимую веру этих людей в благостную волю всевышнего со своей верой, он казался себе не настоящим христианином! Более того, теперь он даже не хотел им стать.
И вовсе не аскетическая отрешенность от мирских благ отпугивала его. Он отлично понимал, какую глубокую радость может приносить замкнутая, чуждая всему земному жизнь. Но исступленная страстность их молитв, их думы и чаяния были ему чужды. В последние годы он и сам привык молиться. И хотя ему молитва нужна была для того, чтобы очистить и укрепить душу, чтобы омыть ее от житейской скверны, он понимал и тех, кто приписывал молитве чудодейственную силу, способность предотвращать несчастья и помогать в минуту опасности. Но те, о ком он читал, втайне вздыхали по мученическому венцу, твердя слова молитвы. Они так бежали от мирской суеты, так боялись искушений и так твердо были уверены, будто жизнь истинного христианина есть вечное, неустанное паломничество, что сами накликали беду на свою голову.
«Напитай меня хлебом слезным, напои меня слезами в полной мере. В руки твои предаю себя и все, что есть моего, дабы ты осудил и наставил меня. Кара твоя да постигнет меня, бич твой да будет мне наукой. Ибо нет высшей радости для раба твоего, нежели претерпеть тяжкие муки во имя любви к тебе. Благословен будь, о господи, что грехов моих не отпустил мне и полной мерой воздал за каждый».
Когда Пер прочел эти слова, у него мороз пробежал по коже, совсем как в тот раз, когда он читал последнее письмо матери. Эта пламенная вера, которая попирала самые исконные требования плоти, вызывала у него невольный протест.
«Поистине великое поношение для человека жить на земле, — писал Томас Кемпис в своей книге о последователях Христа. — Есть, пить, бодрствовать, спать, отдыхать, трудиться — словом, быть полным рабом плоти — это великое поношение и мука для истинно верующего. О человек, если бы ты мог лишь возносить хвалы господу и не знать других забот, сколь счастливее был бы ты, нежели теперь, когда каждая из твоих потребностей делает тебя рабом собственного тела».
Но больше всего в ходе этих исследований смутила Пера та же самая мысль, которая уже год тому назад возникла у него после случайного знакомства с переводом платоновского «Федона». Пер все отчетливее сознавал, что христианство явилось на свет значительно раньше, чем сам Христос, а Христос просто оказался наиболее полным выразителем его идей, да и то лишь в определенный исторический период. Не приносил утешения и тот факт, что, если бы не помощь со стороны государства и власть имущих, которые желали для собственной выгоды сделать Христа духовным вождем своего времени, он так и остался бы случайным, преходящим явлением в истории религии. Зато христианство породила, верно, сама первоприрода человека, вскормил инстинкт, не имеющий ничего общего с голосом плоти и берущий верх над нею всюду, где он только ни встретится.
«Ибо тело причиняет нам тысячи забот, порождает беспокойство и смятение, смущает нас и по его вине мы не в силах разглядеть истину. В нашей жизни мы приближаемся к познанию лишь тогда, когда мы не думаем о своем теле и уделяем ему не больше времени, чем нужно для удовлетворения самых насущных потребностей, — то есть когда мы не даем ему завладеть нашими помыслами».
И так говорил сам Сократ. Или взять Будду! В мозгу Пера навсегда засело буддистское изречение, и когда тьма овладевала его душой, оно вспыхивало перед ним огненными буквами:
«Кто ничего не любит, ничего не ненавидит, ничего не желает на этой земле, тот и лишь тот не знает ни оков, ни страха».
Куда ни глянь, один ответ! Сквозь все времена одно требование: забудь про самого себя, подавляй свое «я», ибо счастье лишь в отречении. А жизнь возражает: утверди самого себя, возлюби самого себя, и силу своего тела, и мощь своего разума, ибо счастье лишь в обладании. Пока еще через эту пропасть никто не перекинул моста. Торжествовать должен либо дух, либо тело, третьего пути нет. И каждый обязан сделать выбор, если только не обладать завидной способностью пастора Бломберга и ему подобных обманывать себя, закрывая горизонт облаками лирического тумана. Надо утвердиться в своей точке зрения, решить, на чьей ты стороне, присягнуть на верность либо кресту, либо бокалу шампанского — и не мешкая, не со страхом, а с беззаветной решимостью, с упоением.
И так, Пер вторично пришел к религии как к единственной силе, поддерживающей и оправдывающей наше существование. Только не было уже в нем прежнего радостного доверия ни к земле, ни к небесам. Он не желал походить на эпикурейцев, а среди христиан он тоже оставался чужим. Но всего невозможнее был возврат к святой невинности пастора Бломберга; Пер уже не мог, словно дитя, спокойно собирать цветочки на краю пропасти, не сознавая той демонически притягательной силы, которую таит в себе бездна.
* * *
Однажды ненастным весенним утром, в самом начале марта, к дверям Пера подали запряженную двуколку. У Пера не было своего сарая, а потому экипаж приходилось держать при трактире, и сегодня его доставил тамошний слуга. Слуга стоял возле двуколки и чертыхался, обхватив плечи руками, чтобы хоть немного согреться. Бедняга дожидался минут пятнадцать. Наконец, вышел заспанный Пер в просторном плаще, молча взобрался на козлы, взял вожжи из рук слуги и тронул лошадь. Он, по обыкновению, просидел полночи над книгами, а когда лег, нахлынули всякие мысли, так что заснул он только под утро. Но рассветный холодок сразу подбодрил его, кстати же экипаж у него был такой, в каком не разоспишься: старый, повидавший виды, до того расхлябанный, что седока подбрасывало на каждой выбоине и на каждом ухабе. Зато лошадь была хоть куда — крепкий норвежский конек; она только имела скверную привычку всякий раз, когда дорога шла под гору, осторожности ради трусить зигзагом от одной обочины до другой. Удивительные у нее были глаза, прямо как плотничий ватерпас: даже самый незначительный спуск она замечала немедленно. Уязвленный в своем кучерском самолюбии, Пер сначала хотел выбить из нее дурь кнутом, но потом он привязался к этой надежной, работящей животине, которая изо дня в день, в любую погоду тащила его по всей округе, и позволил возить себя, как ей заблагорассудится.