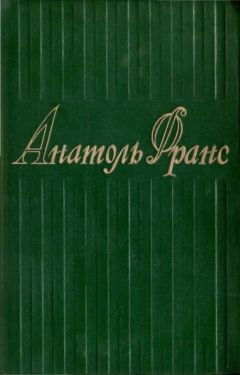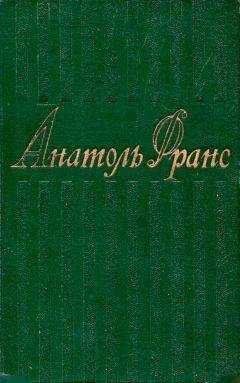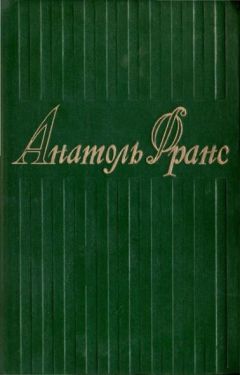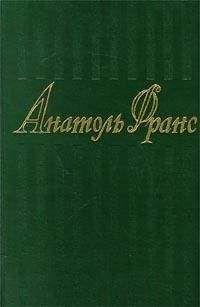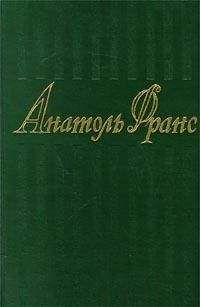Анатоль Франс - 2. Валтасар. Таис. Харчевня Королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец
Я женился на Анни Фрезер, и нет нужды говорить, что мы точно исполняли завет его преподобия. В течение четырех лет я наслаждался этим братским союзом.
Милостью кроткой, кротчайшей Анни Фрезер я совершенствовался в познании бога. Ничто не могло более причинить нам страдания.
Анни была больна, силы оставляли ее, а мы, ликуя, говорили: «Да будет воля твоя на земле и на небесах!»
На исходе четвертого года, в день рождества, его преподобие призвал меня к себе.
— Лесли Вуд, — сказал он, — я возложил на вас спасительный искус. Но полагать, будто брак во плоти неугоден богу, значит впасть в ересь папистов. Господь дважды благословил брачный союз как у людей, так и у животных: в земном раю и в Ноевом ковчеге! Идите и живите отныне с Анни Фрезер, вашей супругой, как муж с женой.
Когда я вернулся, Анни, моя возлюбленная Анни, была мертва.
Признаюсь в моей слабости. Я произносил устами, но не сердцем: «Да будет воля твоя!» И, вспоминая о том, что отец Бартодж снял запреты с нашей любви, я чувствовал горечь во рту и пепел в сердце.
С опустошенной душой преклонил я колена перед ложем, на котором покоилась моя Анни под крестом из роз, немая, бледная, с лиловатыми отметинами смерти на щеках.
Я, маловер, простился с ней и предался бесплодной скорби, близкой к отчаянию. Так провел я целую неделю. А меж тем мне подобало радоваться душой и телом!..
В ночь на восьмой день, когда я плакал, уткнувшись лицом в пустую холодную постель, меня внезапно схватила уверенность, что моя возлюбленная тут, возле меня, в нашей спальне.
Я не обманулся. Приподняв голову, я увидел просветленную, ликующую Анни, простиравшую ко мне руки. Какими словами выразить остальное? Как высказать несказанное? И должно ли открывать сии таинства любви?
Поистине преподобный Бартодж, говоря мне: «Живите с Анни, как муж с женой!», знал, что любовь сильнее смерти.
Знайте и вы, друг мой, что с того стократ благословенного часа моя Анни является ко мне всякий вечер среди дивных благоуханий.
Он говорил с ужасающим одушевлением.
Мы замедлили шаг. Лесли Вуд остановился перед невзрачной с виду, гостиницей.
— Тут я живу, — сказал он. — Видите окно во втором этаже, свет в окне? Она меня ждет.
И он внезапно покинул меня.
Через неделю я узнал из газет о скоропостижной смерти Лесли Вуда, бывшего корреспондента «World».
ГЕСТАС
Шарлю Moppacy[286]
«— Гестас, — сказал господь, — ныне же будешь со мною в раю.
Гестас в наших старинных мистериях — имя разбойника, распятого одесную Иисуса Христа».
Огюстен Тьерри, «Искупление Лармора».Говорят, в наше время живет пустой малый по имени Гестас, который, как никто на свете, умеет молоть вздор. По его курносому лицу нетрудно догадаться, что он предается плотскому греху; по вечерам дурные страсти загораются в его зеленых глазах. Он уже не молод. Его шишковатый череп отливает медью; с затылка свисают длинные зеленоватые пряди. Однако он на редкость простосердечен и сохранил наивную ребяческую веру. Если он не лежит в больнице, то ютится в скверном номеришке какой-нибудь гостиницы между Пантеоном и Ботаническим садом. Здесь, в этом старинном бедном квартале, ему знаком каждый камешек. Темные улочки снисходительны к нему, а одна из них, застроенная жалкими лачугами и кабачками, особенно мила его сердцу, ибо там, за углом одного из домов, в огражденной решеткою голубой нише стоит пречистая Дева. По вечерам Гестас, в раз и навсегда установленном порядке, обходит один за другим все кабачки, чтобы выпить пива или спиртного: великое поприще кутежа требует методичности и аккуратности. С наступлением ночи он, сам не зная как, добирается до своей конуры, всякий раз каким-то чудом находит свою раскладную кровать и валится на нее не раздеваясь. Затем, сжав кулаки, он погружается в сон и спит так, как спят лишь дети да бродяги. Но сон его короток.
Едва лишь заря заглянет в окно мансарды и метнет сквозь занавеску свои лучезарные стрелы, Гестас открывает глаза, приподнимается, встряхивается, точно бродячий пес, разбуженный пинком; сбегает по длинной винтовой лестнице и с наслаждением вновь окидывает взглядом улицу — славную улицу, столь снисходительную к недостаткам обездоленных и неимущих. Его глаза щурятся от утреннего света, его ноздри Силена[287] раздуваются от свежего воздуха. Бравый, широкоплечий, только слегка волоча ногу, искалеченную застарелым ревматизмом, он идет, опираясь на кизиловую палку, железный наконечник которой стерся за двадцать лет бродяжничества. Надо заметить, что во время своих ночных похождений Гестас ни разу не потерял ни трубки, ни трости. В этот час он выглядит довольным и счастливым. И он в самом деле чувствует себя превосходно. Самое большое наслаждение на свете, которое он покупает ценою сна, это бродить по кабачкам и распивать с рабочими белое вино. Невинное удовольствие пьяницы — прозрачное вино, льющееся при бледном свете рождающегося дня, на фоне белых блуз каменщиков! Эти бесхитростные радости чаруют его душу, сохранившую и в порочной жизни свою невинность.
Однажды, весенним утром, дойдя таким образом от своих меблированных комнат до «Маленького мавра», Гестас с удовольствием отворил дверь кабачка, над которой возвышалась раскрашенная чугунная голова сарацина, и подошел к обитому оловом прилавку в компании незнакомых ему собутыльников — целого отряда рабочих из Крэза. Рабочие чокались, вспоминали родные края и обменивались старинными прибаутками, точно двенадцать пэров Карла Великого. Бутылка с вином переходила из рук в руки, краюху хлеба они делили между собой по-братски. Когда кому-нибудь из них приходила в голову любопытная мысль, он громко смеялся и для большей убедительности награждал приятелей увесистыми тумаками. Одни лишь старики пили медленно и поднимали стаканы молча. Вскоре все они отправились на работу; Гестас последний вышел из «Маленького мавра» и побрел в «Спелую айву»; решетка этого кабачка, из копьеобразных железных прутьев, была ему хорошо знакома. Здесь он еще выпил в приятной компании и даже поднес стаканчик двум недоверчивым, но смирным блюстителям порядка. Потом он посетил третий кабачок под выдержанной в античном стиле вывеской из кованого железа, изображавшей двух карликов, которые несут большущую гроздь винограда; здесь ему прислуживала почтенная г-жа Трюбер, славившаяся на весь квартал своей силой, смекалкой и веселым нравом. Затем, добравшись до городских укреплений, он снова промочил горло в винном погребке, где в темноте сверкали медные краны бочек, и в винной лавке с вечно закрытыми зелеными ставнями, где перед входом стоят в кадках лавры. После этого он возвратился в людные кварталы; заходя в различные кофейни, он заказывал себе вермут и виноградные выжимки. Пробило восемь часов. Гестас шел, держа голову прямо, ровной поступью, торжественный и строгий; он выходил из задумчивости, только когда женщины с непокрытой головой, с волосами, узлом закрученными на затылке, спеша за покупками, задевали его своими тяжелыми корзинами или когда сам ненароком сталкивался с какой-нибудь девочкой, крепко державшей в руках огромный каравай хлеба. А иной раз, когда он переходил улицу, тележка молочника, в которой со звоном подпрыгивали жестяные бидоны, останавливалась так близко от него, что он чувствовал на щеке теплое дыхание лошади. Но он все так же неторопливо продолжал свой путь, провожаемый презрительной бранью возницы. Его поступь, которой придавала уверенность кизиловая палка, была по-прежнему спокойна и горделива. Но душевное равновесие старик утратил. От его утренней веселости не осталось и следа. Радостные трели жаворонка, рожденные в нем первыми каплями бледно-красного вина, внезапно смолкли, и теперь душа его напоминала окутанный туманом перелесок, где, сидя на черных деревьях, каркают вороны. Ему было смертельно грустно. Неодолимое отвращение к самому себе поднималось из глубин его существа. Внутренний голос раскаяния и стыда громко твердил: «Свинья! Свинья! Свинья — вот ты кто!» И он восторгался этим гневным и чистым голосом, прекрасным голосом ангела, который таинственно жил в нем и повторял: «Свинья! Свинья! Свинья — вот ты кто!» Ему страстно хотелось быть чистым и невинным. Он плакал; крупные слезы стекали по его козлиной бородке. Он плакал над самим собою. Послушный глаголу Учителя, рекшего: «Оплакивайте себя и чад ваших, дщери иерусалимские!», он проливал горькую росу очей на плоть свою, оскверненную семью смертными грехами, и на свои грязные помыслы, рожденные опьянением. Вера его детских лет воскресала и пышно распускалась в нем во всей своей свежести. С его уст слетали наивные молитвы. Он бормотал: «Господи, сделай меня похожим на малое дитя, каким я был когда-то!»