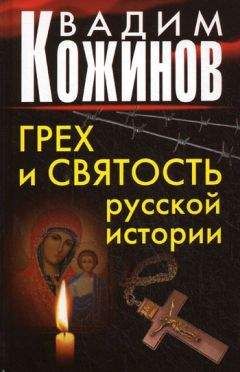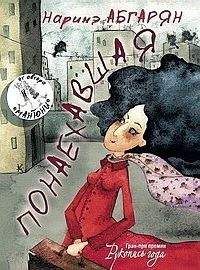Николай Лесков - На ножах
В доме повторяли: какой ужасный случай!
И это действительно был случай, но не совсем случайный, как думала Синтянина и как еще тверже знала Лариса: это была только ошибка.
Глава девятая
Дело темной ночи
Внезапная смерть Водопьянова произвела самое тягостное впечатление не только на весь бодростинский дом, но и на все село. Это была словно прелюдия к драме, которая ждалась издавна и представлялась неминучею. В селе опять были вспомянуты все злые предзнаменования: и раки, выползавшие на берег, и куцый мундир Бодростина с разрезанною спиной.
Все становились суеверными, не исключая даже неверующих. Заразительный ужас, как волны, заходил по дому и по деревне, на которую недавно налегла беда от коровьей смерти, – великого несчастия, приписываемого крестьянами нагону сборного скота на консервную фабрику и необычному за ним уходу. Ко всему этому теперь являлось подозрение, что пожар – не случайность, что крестьяне, вероятно, подожгли завод со злости и, может быть, нарочно разобрали перила моста, чтобы погубить таким образом Михаила Андреевича.
Висленев высчитывал все это как по-писанному, и Бодростин находил эти расчеты вероятными.
Азарт пророчества, овладевший Висленевым, был так велик, что Глафира даже сочла нужным заметить, что ведь он сумасшедший, но муж остановил ее, сказав, что в этих словах нет ничего сумасшедшего.
В город было послано немедленно известие о необычайном происшествии. Тело Сумасшедшего Бедуина положено в конторе, и к нему приставлен караул;
в доме и в деревне никто не спал. Михаил Андреевич сидел с женой и рассказывал, как, по его соображению, могло случиться это ужасное несчастие с Водопьяновым. Он был уверен, что лошадь покойного испугалась бабьего обхода и, поднявшись на дыбы, бросилась в сторону и опрокинулась за перилы, которые не были особенно крепки и которые, как ему донесли, найдены там же под мостом совершенно изломанными. Впрочем, Михаил Андреевич был гораздо более занят своим сгоревшим заводом и пропажей разбежавшихся по лесам быков. Они сорвались во время пожара и в перепуге и бешенстве ударились по лесам, что и было причиной того адского рева и треска, который несся, как ураган, пред вестью о смерти бедного Водопьянова.
Шум разбудил и уснувшую было Лару. Она проснулась и, будучи не в силах понять причины слышанных звуков, спросила о них горничную. Та проговорилась ей о происшедшем. Лариса схватила свою голову и, вся трепеща, уверяла, что ее покидает рассудок и что она хочет приготовить себя к смерти: она требовала к себе священника, но желала, чтоб о призыве его не знали ни Бодростины, ни брат ее, ни Горданов. Форов взялся это устроить: он ушел очень рано и в десятом часу утра уже вернулся с Евангелом.
«Поэтический поп», не подавая виду, что он пришел по вызову, пронес дароносицу под рясой, но, как он ни был осторожен, Горданов почуял своим тонким чувством, что от него что-то скрывают, и не успела Синтянина оставить больную со священником в комнате, как Павел Николаевич вдруг вышел в перепуге из своей комнаты и торопливо направился прямо к Ларисиной двери. Это было очень неожиданно, странно и неловко. Синтянина, только что присевшая было около работавшей здесь горничной, тотчас же встала и сказала ему по-французски: «вам туда нельзя взойти».
– Отчего это? – отозвался Горданов на том же языке.
– Оттого, что вы там теперь лишний, – и с этим генеральша заперла дверь на замок и, опустив ключ в карман своего платья, села на прежнее место и стала говорить с девушкой о ее шитье.
Горданов тихо отошел, но через минуту снова появился из своей комнаты и сказал:
– Строго говоря, милостивая государыня, вы едва ли имеете право делать то, что вы делаете.
Синтянина не ответила.
Он прошелся по комнате и снова повторил то же самое, но гораздо более резким тоном, и добавил:
– Вы, верно, позабыли, что ваш муж теперь уже не имеет более средств ни ссылать, ни высылать.
Синтянина посмотрела на него долгим, пристальным взглядом и сказала, подчеркивая свои слова, что она всегда делает только то, на что имеет право, и находит себя и теперь вправе заметить ему, что он поступает очень неосторожно, вынув из-за перевязи свою раненую руку и действуя ею, как здоровою.
Горданов смешался и быстро сунул руку за перевязь. Он был очень смешон:
Спесь и наглый вид соскочили с него, как позолота.
– Вы не знаете моих прав на нее, – прошипел он.
– Я и не хочу их знать, – ответила сухо генеральша.
– Нет, если бы вы узнали все, вы бы со мною так не говорили, потому что я имею права…
В эту минуту отец Евангел постучался из Ларисиной комнаты. Синтянина повернула ключ и, выпустив бледного и расстроенного Евангела, сама ушла к больной на его место.
Лариса казалась значительно успокоившеюся: она пожала руку Синтяниной, поблагодарила ее за хлопоты и еще раз прошептала:
– Не оставляй меня, Бога ради, пока я умру или в силах буду отсюда уехать.
Генеральша успокоила, как умела, больную и весь день не выходила из ее комнаты. Наступил вечер. Утомленная Александра Ивановна легла в постель и уснула. Вдруг ее кто-то толкнул. Она пробудилась и, к удивлению, увидела Ларису, которая стояла пред нею бледная, слабая, едва держась на ногах.
Вокруг царствовала глубочайшая тишина, посреди которой Синтянина, казалось, слышала робкое и скорое биение сердца Лары. По комнате слабо разливался свет ночной лампады, который едва позволял различать предметы. Молодая женщина всматривалась в лицо Ларисы, прислушивалась и, ничего не слыша, решительно не понимала, для чего та ее разбудила и заставляет ее знаками молчать.
Но вот где-то вдали глухо прозвучали часы. По едва слышному, но крепкому металлическому тону старой пружины, Синтянина сообразила, что это пробили часы внизу, в той большой комнате, куда в приснопамятный вечер провалился Водопьянов, и только что раздался последний удар, как послышался какой-те глухой шум. Лара крепко сжала руку Синтяниной и, приложив палец к своим губам, шепнула: «слушай!» Синтянина привстала, приблизила ухо к открытому отверстию печного отдушника, на который указала Лариса, и, напрягая слух, стала вслушиваться. Сначала ничего нельзя было разобрать, кроме гула, отдававшегося от двух голосов, которые говорили между собвю в круглой зале, но мало-помалу стали долетать членораздельные звуки и наконец явственно раздалось слово «ошибка».
Это был голос Висленева.
– Ну, так теперь терпи, если ошибся, – отвечал ему Горданов.
– Нет, я уже два года кряду терпел и более мне надоело терпеть холить в роли сумасшедшего.
– Надоело! Ты еще не пивши, говоришь уже, что кисло.
– Да, да, не пивши… именно, не пивши: мне надоело стоять по уста в воде и не сметь напиться. Я одурел и отупел в этой вечной истоме и вижу, что я служу только игрушкой, которую заводят то на спиритизм, то на сумасшествие… Я, по ее милости, сумасшедший… Понимаешь: кровь, голова… все это горит, сердце… у меня уже сделалось хроническое трепетание сердца, пульс постоянно дрожит, как струна, и все вокруг мутится, все путается, и я как сумасшедший; между тем, как она загадывает мне загадку за загадкой, как сказочная царевна Ивану-дурачку.
– Но нельзя же, милый друг, чтобы такая женщина, как Глафира, была без своих капризов. Ведь все они такие, красавицы-то.
– Ну, лжешь, моя сестра не такая.
– А почему ты знаешь?
– Я знаю, я вижу: ты из нее что хочешь делаешь, и я тебе помогал, а ты мне не хочешь помочь.
– Какой черт вам может помочь, когда вы друг друга упрямее: она своею верой прониклась, и любит человека, а не хочет его осчастливить без брака, а ты не умеешь ничего устроить.
– Я устроил-с, устроил: я жизнью рисковал: если б это так не удалось, и лошадь не опрокинулась, то Водопьянов мог бы меня смять и самого в пропасть кинуть.
– Разумеется, мог.
– Да и теперь еще его мальчик жив и может выздороветь и доказать.
– Ну, зачем же это допустить?
– Да; я и не хочу этого допустить. Дай мне, Паша, яду.
– Зачем? чтобы ты опять ошибся?
– Нет, я не ошибусь.
– Ну, то-то: Михаилу Андреевичу и без того недолго жить.
– Недолго! нет-с, он так привык жить, что, пожалуй, еще десять лет протянет.
– Да, десять-то, пожалуй, протянет, но уж не больше.
– Не больше! не больше, ты говоришь? Но разве можно ждать десять лет?
– Это смотря по тому, какова твоя страсть?
– Какова страсть! – воскликнул Висленев. – А вот-с какова моя страсть, что я его этим на сих же днях покончу.
– Ты действуешь очертя голову.
– Все равно, мне все равное я уж сам себе надоел: я не хочу более слыть сумасшедшим.
– Меж тем как в этом твое спасение: этак ты хоть и попадешься, так тебя присяжные оправдают, но я тебе не советую, и яд тебе дал для мальчишки.
– Ладно, ладно, – твое дело было дать, а я распоряжусь как захочу.
– Ну, черт тебя возьми, – ты в самом деле какая-то отчаянная голова.
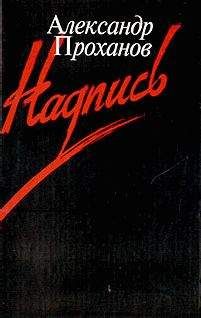
![Евгений Сартинов - Гороскопы всегда врут [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)