Томас Вулф - Паутина и скала
Таким образом, во всей этой картине мира, которая за много бурно пронесшихся лет в непрестанных, мучительных трудах души и разума сложилась не только из того, что Джордж видел, узнал, запомнил, но также из всего, что его жажда и мечта извлекли из невиданных краев, жил этот дикий, нечленораздельный возглас радости и торжества. Этот возглас был в сложившемся у него образе земли, таком завершенном и сияющем, что ночами ему иногда казалось, будто он видит ее всю, раскинувшуюся на холсте его воображения — холмы, горы, равнины, пустыни, застывшие в лунном свете поля и громадные сонные леса, а также всю громадную россыпь больших и маленьких городов. Возглас этот был в его видении огромных, таинственных, текущих в темноте рек, в восемнадцати тысячах миль океанского побережья, о которое в мерцании лунного света вечно плещет море, наступая и отступая шипящими волнами в ритме своего дыхания, непрестанно пенясь в бесчисленных углублениях суши.
И этот возглас поднимался от мыслей о тропической темноте и ночных джунглях, обо всем мрачном, зловещем, неведомом; он поднимался с демонической радостью из сонных дебрей, из буйных тропических зарослей, где на поросшем папоротником склоне холодно поблескивает змеиный глаз; из видения странных тропических растений, на которых, насытясь, спят ядовитые тарантул, гадюка, кобра, и где золотисто-зеленые, глянцевито-синие, ярко-красные попугаи оглашают темноту горделивыми, бессмысленными воплями.
Особенно неистово возглас этот приходил с самой необузданной радостью из сердца тьмы, из сонного царства. Много раз в тихие ночи дух Джорджа вырывался из заточения в городской комнате и носился над сонным царством, он слышал вокруг сердцебиение десяти миллионов людей, и из души его рвался дикий, нечленораздельный возглас. Из темного моря людского сна, на которое тускло светило несколько звезд, возглас взывал ко всем громадным рыбам, плавающим в темных ночных водах; ко всем блужданиям, тыканьям, нащупываниям мозга вслепую; ко всем легчайшим, невидимым шевелениям, ко всему, что плавало, шевелилось. Блуждало в сонном царстве, ко всему, покрытому лесами, далекому, дух его слал возглас торжества и возвращения.
И наконец этот нечленораздельный возглас пыла и торжества рвался из его горла множество раз на городских улицах. Иногда он приходил от всех теплых, волнующих запахов мостовых в конце весны, от влажного аромата земли, словно бы пробивающегося волнами ее животворности сквозь все камень и сталь; приходил с неистовой радостью от волшебства апреля, великолепия первой зелени, очарования прекрасных женщин, которые словно бы выбились ночью из земли и всего один день будут цвести на улицах чудесными цветами.
Этот возглас приходил к нему, когда он ощущал запах водорослей в гавани, чистое, соленое благоухание моря, возглас бы-пал в прохладных вечерних приливах, в пустых пирсах, в проплывающих огоньках маленьких буксиров. Возглас поднимался к его устам, когда он слышал гудки больших судов в ночном заливе или с ликованием внимал оглушительному бу-у-у их отплытия, когда они строились в кильватер и направлялись к морю в субботний полдень. Возглас приходил к нему всякий раз, когда он видел горделивые носы могучих судов, скошенные надстройки отплывающих лайнеров, смотрел, как они удаляются от чернеющих толпами провожающих пирсов.
Итак, этот дикий, нечленораздельный возглас торжества, страдания и восторга приходил к нему множество раз во множестве мест. И в этом возгласе была память обо всем далеком, мимолетном, утраченном навсегда, о том, что он с пылающим сердцем, с невыносимым, неистовым сожалением хотел бы сохранить в своей жизни. Раньше по весне этот возглас поднимался до могучего биения энергии и радости, вздымался над миллионнолюдной жизнью города в крыловидных пролетах мостов, во всех сильных запахах верфей и рынков. Однако теперь, в эту жестокую весну, Джордж неистово расхаживал по городу, воспринимал, как всегда, остро, пронзительно очарование и великолепие ее прихода — однако же ничто не срывало этого возгласа с его уст.
И теперь, поскольку он не ощущал порыва к этому дикому, неудержимому возгласу, ему казалось, что из его жизни, из души ушло нечто драгоценное, неоценимое. Он всегда знал, что этот возглас представляет собой нечто большее, чем природная жизненная сила мальчишки.
Возглас этот приходил к нему не из воображаемых образов, не из сновидений или фантазий, не из галлюцинаций мечты. Он исходил из земли с неуклонной уверенностью, и в нем были все богатство и слава мира. Возглас этот был для Джорджа своеобразным пробным камнем действительности, потому что никогда его не обманывал. Всегда приходил как отклик на истинное, несомненное великолепие, на действительность, столь же подлинную, как золотая монета. В этом возгласе были знание, сила, истина. Возглас связывал Джорджа со всей людской семьей, так как он всегда знал, что люди во все века и эпохи ощущали на устах этот самый возглас торжества, страдания и пылкости, что он приходил к ним из тех же событий, времен года и неизменных очевидностей радости, как и к нему.
Этот возглас являлся подлинным золотом земли, и теперь Джордж сознавал с чувством крушения, сломленности, что утратил нечто бесценное, вовеки невозместимое.
— И ты знаешь это, так ведь? — злобно сказал он. — Ты это признаешь. Сама знаешь, что я утратил его, разве не так?
— Ничего ты не утратил, — спокойно ответила Эстер. — Послушай! Ты не утратил ни силы, ни энергии. Вот увидишь, их у тебя не меньше, чем когда бы то ни было. Не утратил способности радоваться или интереса к жизни. Ты утратил лишь то, что никакого значения не имеет.
— Это ты так говоришь, — угрюмо пробормотал Джордж. — Это все, что ты об этом знаешь.
— Послушай! Я знаю об этом все. Знаю точно, что ты утратил свой прежний способ выпускать пар. А такое случается со всеми. Господи! Нам ведь не может быть вечно двадцать один год! — гневно произнесла она. — Но ты поймешь, что не утратил ничего ценного или существенного. Ты сохранил все свои силу и энергию. Да — и даже увеличил! Потому что научишься лучше использовать их. Джордж, ты будешь постоянно становиться все сильнее, клянусь тебе! Так было со мной, и так будет с тобой.
Раскрасневшаяся Эстер на миг нахмурилась.
— Утратил свой возглас! — пробормотала она. — Господи! Как ты выражаешься! — Губы ее слегка изогнулись, в голосе послышался знакомый циничный юмор еврейской презрительности. — Не беспокойся об утрате возгласа, — негромко сказала она. — Побеспокойся о том, чтобы немного поумнеть — это, молодой человек, тебе гораздо нужнее… Утратил свой возглас! — пробормотала она снова.
И еще несколько секунд смотрела на него, серьезно и гневно хмурясь, быстро снимая и вновь надевая кольцо. Потом помягчела, ее теплое горло дрогнуло, веселое лицо стало вновь расцветать румянцем, и внезапно она разразилась легким, удушливым женским смехом:
— Утратил свой возглас! Господи, ты просто чудо! Неужели можно воспринимать всерьез то, что ты говоришь!
Джордж угрюмо поглядел на нее, а потом вдруг неистово расхохотался, ударил себя ладонью по лбу и воскликнул:
— Хо!
Потом с мрачным, угрюмым взглядом повернулся к ней и невнятно, непоследовательно пробормотал, словно кто-то был повинен в оскорблении, которое он оставлял без внимания с какой-то противной себе снисходительностью:
— Знаю, знаю! Не говори больше об этом. — Потом отвернулся и угрюмо уставился в окно.
В течение всего того жестокого мая, отмеченного треволнениями, приступами его тупого молчания, плотным сплетением их жизней, напряженным, переменчивым состоянием их душ, в которых на краткий миг вспыхивала самая горячая, нежная любовь, между ними велась безобразная, безжалостная, отчаянная борьба.
День за днем шла упорная, свирепая битва — мужчина рычал, метался по комнате, будто разъяренное животное, обрушивал на женщину грязные ругательства, обвинения, упреки, женщина плакала, всхлипывала, пронзительно выкрикивала возражения и в конце концов с трагичным видом, с опухшим от слез лицом уходила, говоря, что настал конец, что она прощается с ним навсегда и больше не желает его видеть.
Однако меньше чем через два часа она звонила ему по телефону, присылала телеграмму или короткое, наспех написанное письмо, Джордж немедленно вскрывал его и упрямо читал с посеревшим, искаженным лицом и дрожащими пальцами, черты лица его издевательски кривились, когда он злобно насмехался над собственным безрассудством, и сердце его мучительно кололи наспех написанные простые слова, проникнутые истиной, честностью, страстью, легко проходившие сквозь его душевную броню.
А на другой день она появлялась у него снова, ее маленькое лицо бывало серьезным, решительным, с застывшим торжественным выражением окончательного отречения. Иногда говорила, что пришла проститься окончательно по-хорошему, иногда, что забрать нужные для работы материалы и вещи. Но появлялась всякий раз, с неизбежностью судьбы, и тогда Джордж начинал понимать то, что оказывался не способен понять раньше, то, что счел бы в ранней юности невозможным — что в этой хрупкой женщине с похожим на цветок лицом таится могучая, неукротимая воля, что это утонченное, привлекательное маленькое существо, способное горько плакать, печально отрекаться, изо дня в день трагически уходить, является, вне всякого сомнения, самым решительным, непоколебимым, грозным противником, какого он только знал.
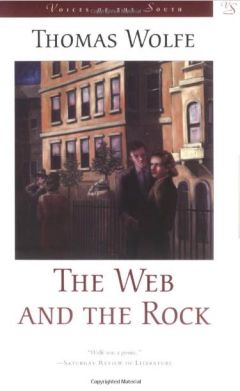
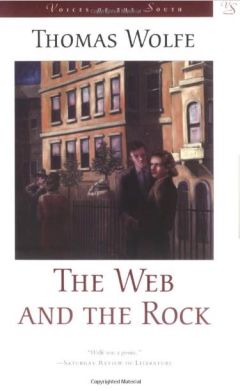


![Джон Уиндем - Паутина [ Авт. сборник]](/uploads/posts/books/60251/60251.jpg)