Томас Вулф - Паутина и скала
— О, изнурен! Изнурен, как же! — сказала Эстер с возмущенным смешком. — Оно и видно! Изнурил меня, ты хочешь сказать. Изнуряешь всех своими метаниями. Изнуряешь себя, колотясь головой о стену! Но — изнурен! Ты так же изнурен, как Гуд зон!
— Не надо — ради Бога, не надо! — яростно произнес Джордж сдавленным голосом, вытянув руку в жесте, выражающем раздражение и досаду. — Не льсти мне. Послушай! Я говорю правду! Я уже не тот, что раньше. Я утратил былые уверенность и надежду. У меня нет прежних уверенности и силы. Черт побери, женщина, неужели тебе не ясно? — яростно спросил он. — Неужели не видишь сама? Неужели не понимаешь, что я утратил свой возглас? — выкрикнул он, ударя себя в грудь и сверкая на нее глаза ми в безумной ярости. — Не знаешь, что я полгода уже не издавал возгласа?
Как ни смешны и нелепы были эти слова, какими поразительными ни могли бы показаться невидимому слушателю, ни он, ни она не рассмеялись. Разгоряченные, воинственные, возвышенно-серьезные, они стояли, обратя друг к другу раскрасневшиеся, взволнованные лица. Эстер поняла Джорджа.
«Возглас», о котором говорил Джордж, который среди мучительного безумия и мрачной ярости последних месяцев, как ни странно, казался ему важным, представлял собой просто-напросто выражение животной жизнерадостности. С раннего детства этот нечленораздельный вопль поднимался в нем волной неудержимого торжества, собирался в горле и потом срывался с губ диким ревом боли, радости, исступления.
Иногда возглас приходил в минуту торжества или успеха, иногда по непонятной причине из загадочного, безымянного источника. Джордж издавал его в детстве множество раз, он приходил к нему в свете и красках множества мимолетных явлений; и все непереносимые добро и красота бессмертной земли, все непереносимые ощущения боли и радости, все непереносимое сознание краткости человеческой жизни всякий раз вкладывались в этот неудержимый крик, хотя Джордж не знал, каким образом, не мог сказать, в каких выражениях.
Иногда он приходил просто в краткий, непередаваемый миг — в знойном, радостном аромате молотого кофе, в запахе жарящегося мяса, в первых морозцах октябрьских вечеров. Иногда в мутных водах реки, разлившейся после проливного дождя; или в округлости дынь, лежащих в телеге на душистом сене; бывал в запахе гудрона и нефти, несшемся летом от раскаленных тротуаров.
Бывал он в ароматных запахах старых бакалейных лавок — и Джордж неожиданно вспоминал забытую минуту детства, когда он стоял в такой лавке и видел, как собираются черные, пронизанные фиолетовым и багровым светом грозовые тучи, потом десять минут смотрел, как неистовый ливень хлещет и растекается по опущенной голове, тощему серому крупу и исходящим паром бокам старой лошади лавочника, запряженной в телегу, привязанной к бордюрному камню и ждущей у бровки тротуара с мученическим терпением.
Эта обыденная, забытая минута вспоминалась со всем давним загадочным ликованием, которое вызывала у него та сцена. И Джордж вспоминал все и всех в лавке — продавцов в передниках, с манжетами из соломы, с резинками на рукавах, с карандашами за ухом, их расчесанные на прямой пробор волосы, обворожительную вкрадчивость их голосов и манер, когда они принимали заказы от раздумывающих домохозяек, а также сильные, ароматные запахи, поднимающиеся от больших ларей и бочек. Вспоминал запах пикулей в бочонках из Атланты, приятные, застарелые запахи досок пола и прилавка, которые словно бы специально выдерживались во всех этих ароматах более десяти лет. Там были запахи вкусного, горьковатого шоколада и чая; свежесмолотого кофе, сыплющегося из мельнички; масла, лярда, меда и нарезанного ломтями бекона; желтого сыра, отрезанного толстыми ломтями от большого куска; а также природные запахи свежих овощей и фруктов — твердых лущеных горошин, помидоров, фасоли, молодых кукурузы и картофеля, яблок, персиков, слив; большие, сильно и странно волнующие арбузы.
И вся та сцена — виды, звуки, запахи, душный воздух и фиолетовый цвет, ливень, хлещущий по блестящим безлюдным тротуарам, а также источающие пар бока старой серой лошади, красивая, недавно вышедшая замуж молодая женщина, с восхитительной неуверенностью покусывающая нежные губы, делая заказы молитвенно стоящему перед ней продавцу, — пробудила в его мальчишеском сердце могучее чувство радости, изобилия, гордого, бьющего ключом торжества, чувство личной победы, громадной удовлетворенности, однако почему все это так воздействовало на него, он не знал.
Но в детстве чаще, необъяснимее, из более таинственных источников безмерного ликования этот неудержимый возглас исторгался у него в те минуты, когда картина изобилия оказывалась не особенно впечатляющей, когда непонятно было, что вызывало у него торжество, удовлетворенность, однако и тут радость его бывала не менее сильной, чем при полной, убеждающей картине.
Иногда этот возглас таился в тени облака, проплывающей по густой зелени холма, иногда с самой невыносимой радостью, какую он только знал, в зеленом свете леса, поэтичной чаще дебрей, прохладных, голых местах под пологом дерева, золотистых бликах солнца, пронизывающих странным, чарующим светом колдовское великолепие прохладной, бездонной зелени. Во всем этом великолепии бывали впадина, откос, поляна, родник, бьющий в подушке из зеленого мха, растущий возле тропинки дуб с громадным дуплом, а дальше хрустально чистый лесной водопад, и в воде под ним женщина с голыми ногами, пышными бедрами и подоткнутой юбкой, а вокруг нее необычайное сияние колдовского золота и бездонной зелени, камень, папоротник, пружинящий ковер мягкой лесной земли и все бесчисленные голоса ясного дня, они внезапным, отрывистым чириканьем, щебетом и пением, неистовым стуком дятла проносились мимо нее к несметным смертям, исчезали и раздавались снова.
И этот возглас приходил в слабом, надтреснутом звоне колокола среди дня, долетающем к тенистой теплоте поляны, в сильном жарком благоухании клевера, в частом падении желудей на землю среди ночи, в резком, далеком реве ветра осенью. Возглас этот бывал в сильном, вольном крике детей, играющих на улице в сумерках, в негромких голосах в конце лета, в женском голосе и смехе ночью на улице, в трепетании листа на ветке.
Он бывал ночами в морозе, звездном свете и далеких, невнятных звуках, бывал в зелени листвы, во внезапном биении снежинок о стекло. В первом свете, заре, в цирках, в пляске и раскачивании фонарей во тьме, в мигании зеленых огней семафоров, в пыхтении паровозов, в стуке и дребезжании товарных вагонов в потемках, в криках и брани циркачей, в ритме ударов по забиваемым кольям, запахах брезента, опилок и крепкого кофе, в смраде, идущем от львов, в черноте и желтизне тигров, в сильном коричневом верблюжьем запахе, во всех звуках, видах и запахах, которые цирк привозил в маленькие городки.
И в торжественной радости тихих полей, с которых исчезли дневные жара и неистовство, и в громадном теле земли, движущемся к прохладе и ночи, тихо дышащем в последнем свете дня.
В колесах и копытах, нарушающих на заре тишину улиц, в пении птиц на рассвете, в грузном, дробном топоте скота, выходящего с пастбищ на дорогу в сумерках, в красном, угасающем свете заходящего солнца над вершинами холмов; в вечере и тишине земли, в четких мыслях с болью и радостью о далеких городах.
Этот дикий возглас поднимался к устам Джорджа от всего названного, от всех приездов и отъездов, от мыслей о новых землях, городах, судах и женщинах; от колес, реборд, от рельсов, огибающих землю словно беспредельность и торжественная музыка, от людей, путешествий и бессмертного, негромкого звучания времени вокруг стен больших станций; от стремительности, блеска, снования штока, силы и мощи паровоза, от ярких огней и клубов пара, мгновенно проносящихся по рельсам ночью. Он был в едкой копоти на громадных станционных платформах, окутанных дымом сорока поездов, в жарком зеленом храпе в пассажирских вагонах по ночам, в сердце юноши, который, лежа на своей полке, радостно прислушивался, как неторопливо шевелится, шелестя бархатом, женщина, вяло потягивающаяся в темноте, и когда он видел огромную темную землю, плавно проплывающую за вагонным окном, когда слышал в тишине ночи более странные и знакомые, чем сон, голоса неизвестных людей на маленькой платформе в Виргинии.
Этот возглас поднимался от всех мыслей о путешествиях и расстояниях, о навевающей грусть бескрайности земли, о больших реках, медленно несущих в темноте из глубин сокрытых в холмах истоков свое аллювиальное изобилие по всему континенту, о ночной Америке с темными, неподвижными стеблями кукурузы и легким шелестом листьев. Он был в его думах обо всех реках, горах, равнинах и пустынях, обо всех маленьких сонных городках на всем континенте, о ярком свете паровозных фонарей, заливающем рельсы и на краткое время громадные пшеничные поля, обо всех женщинах Запада в своих сновидениях и мечтах, которые стояли в проеме открытой двери и спокойно глядели в бескрайние поля зеленой кукурузы или золотистой пшеницы или прямо в зарево заходящего в пустыне солнца.
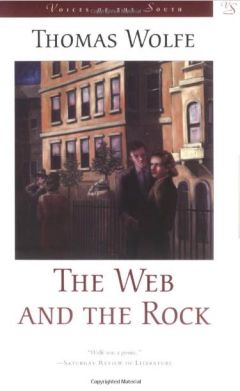
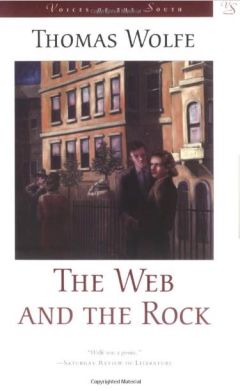


![Джон Уиндем - Паутина [ Авт. сборник]](/uploads/posts/books/60251/60251.jpg)