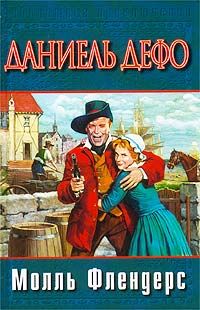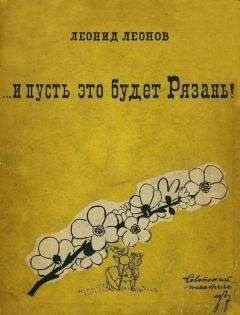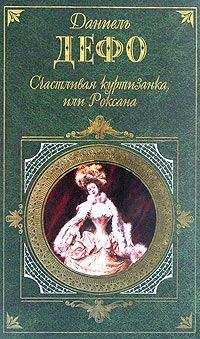Леонид Леонов - Вор
— Е-еще вчера погода ббыла пригодна для ссадонасаждения, а вот уже ззаступ в зземлю не взойдет… — тотчас согласился на представленное условие Сергей Аммопыч, с расстояния ошаривая взглядом пустые тарелки.
Он слегка запинался, порою даже и не слегка, самое мышление его было заметно сковано, что также удобнее было отнести за счет повсеместного в ту ночь похолоданья.
— Вот мы ему сейчас генеральное прогревание устроим… — вынес решение Петр Горбидоныч, взявшись за бутылку и придвигая к себе стакан.
— Ты с ума сошел, — за руку удержала его от адского намерения супруга. — Ему яичницу теперь, а ты… разве можно при его здоровье?
— Ммне теперь все можно… — разрешительно усмехнулся Манюкин, провожая глазами отправившуюся на кухню хозяйку. — Но для ссогретия хорошо ттоже примменять те-еплые щи…
Столь своевременная и, главное, полная оптимизма находчивость Манюкина вызвала почти всеобщий, за немногими исключениями, смех: людям свойственно радоваться, когда другие выбираются сухими из беды. Да и в самом деле, если пренебречь некоторым заиканьем, каким иногда страдают даже исключительно здоровые натуры, отсутствием излишней в его возрасте резвости да землистым цветом лица, легко объяснимым русской ленью в отношении прогулок на чистом воздухе, то состояние Манюкина никак нельзя было назвать столь уж плачевным. Напротив, в целом все поведение его исключало необходимость чьей-либо жалости, так что едва он подкрепился гречневой кашей с накрошенными туда кусочками вареной говядины от обеда, запитой глотком-двумя виноградного винца, Петр Горбидоныч даже обратился к нему с просьбой развлечь общество рассказцем на какую-либо непредосудительную, учитывая наличие спящего в углу ребенка, тем не менее завлекательную темку. Ему весьма хотелось угостить доброй порцией здорового смеха начальственное лицо, чтобы округлить доставляемое ему вечеринкой удовольствие.
Сознавая необходимость уплаты людям за теплый кров и пищу, за самое общенье с ним, Манюкин и не противился. Усевшись поплотней, он задумчиво уставился в пол, видимо листая лохмотья не проданных пока воспоминаний, — Бундюков просил обождать с началом, пока не внесет с кухни поспевший самовар.
— Внимание! — возгласил Петр Горбидоныч, предварительно пошептавшись с рассказчиком. — Сверхштатный мировой артист Манюкин сделает нам небольшое сообщение про свой нашумевший спор с купцом Пантелеевым, едва не ставший причиной мировой войны…
Под общие аплодисменты — теперь уже вовсе за малым исключением, Манюкин раскланялся, не покидая места и в намерении приступить к рассказу, но вдруг взглянул на уставившегося в него гуталинового короля.
— Не глазейте на меня так, деточка, а то вот этак хапну вас, да к себе туда и унесу… — крайне комично пригрозил он ему, и тот вынужден был согласиться осовелым голосом, что действительно крайне смешные люди попадаются на свете; начало последовало немедленно. — В Ппитере, на святках раз, познакомился я в клубе с этим ччертом, Пантелеевым Ильей… ну, тот самый, что на удивленье заграничных ученых изобрел не выгорающую на солнце краску из куриного дерьма. Дда он и раньше славился выдумкой: в Вятке, при лабазе, апельсины у себя выращивал, целебные бальзамы в железной бочке на всю губернию варил… ИI тут, слово за слово, сцепились мы с ним, кто шибче ммир рассмешит. «Переспоришь меня, кричит, получай все мои фабрики, фундуклеи, а также оборотный капитал исключительно в облигациях выигрышного займа, не то голова с плеч… алло?» А я как раз после очередного проигрыша без копейки бедствовал… оно и жжутко, а никак отказываться нельзя. Вот уттречком после того загримировался я под собор Василия Блаженного, встал на уголке поближе у его особняка, жду, мурчу под нос себе всякие кафизмы…
…Так уходили они от Фирсова. Стало совсем поздно и душно. «Было так накурено, что табачный дым уже не помещался в комнате и курильщикам приходилось силой вдувать его в пересыщенный воздух…» — лениво записалось в фирсовском мозгу и вычеркнулось само собою. Усталым взором окинул автор напоследок покидаемое собрание. Зина Васильевна совместно с Бундюковой готовила стол к чаепитию, гуталиновый король дремал с видом захмелевшего левиафана, подслушиваемый Бундюковым Заварихин доказывал что-то Пчхову по коммерческой части, а Стасик не менее горячо внушал волю к жизни оцепеневшему от одиночества Пуглю… пожалуй, только Беганин, да и то вполслуха, внимал завершительной манюкинской поэме. Все разваливалось на глазах, не связанное более сюжетом. Поднявшись, Фирсов незаметно вышел в прихожую. Не больше минуты потребовалось ему, чтобы уйти из дома, куда с такими долгими и мучительными препятствиями вступал он год назад.
На лестнице его окликнул Векшин:
— Погоди там, не спеши, Федор Федорыч, мне тоже пора. И сдается мне, может нам оказаться по дороге…
Он догнал сочинителя на третьем марше, они стали спускаться вместе.
— Куда ж теперь… спать? — спросил Фирсов о чем пришлось.
— Нельзя, мероприятие одно назначено. Только тебе открою, да и то — по секрету: еду Доньку судить. Все собрались там, нас с тобою ждут. Редкий случай представляется тебе, Федор Федорыч, на примере посмотреть, как оно в практике происходит.
— Нет, не хочется… — сказал, колеблясь, Фирсов.
— Неудобно, думаешь? Так ведь со мной всюду пройдешь, Федор Федорыч, да еще шапки для тебя снять заставлю… аи страшно? Но это ж и есть столкновенье жизней… и оно не грязней, чем прочие. Все бьется на свете друг с дружкой: огонь и вода, тьма и свет, тетерева, олени… древние ящеры, я читал, тоже хвостами хлестались.
— Видите ли, я не верю в Донькину вину, Дмитрий Егорыч, и вы отлично знаете почему… — Учитывая уединенность места и вспыльчивость собеседника, Фирсов не стал углубляться в подробности. — Кстати, все это у меня давно написано… уж печатается, и даже шея от предчувствия критики заранее побаливает.
— Так ведь наврал поди заглазно-то, а тут в натуре правилку увидишь. Такое самому видеть надо, чтоб право на описание иметь. Как же сам тогда от судей да от реформаторов разных требуешь, чтоб участие в казнях принимали? Вот все вы так: выпускаете брошюрки в чистеньких обложках, забывая — о чем они!
То были собственные его, фирсовские, мысли, автор хмуро взглянул на собеседника. Перед ним стоял человек из подполья с темным, недобрым лицом… и ему он отдал год жизни! Смущенье охватило Фирсова: так что же привлекло его на Благушу? Ветреный полдень на Кудеме, завихренье пыли от промчавшихся всадников, история одной священной дружбы, несостоявшаяся карьера удальца, двуликая Машина любовь или, наконец, повесть об испугавшейся циркачке?.. но ведь к Тане можно было пройти и другой дверью, минуя благушинские трущобы.
— Видно, не уговорил, Федор Федорыч?
— Нет, — наотрез повторил Фирсов, уже тяготясь разговором. — И вам советую приниматься за иное… прочтите в повести моей: там все про вас рассказано, как и что. Вы свое отшумели, Дмитрий Егорыч, другое в мире настает!
И по холодку фирсовской интонации Векшин понял, что его выселяют с квартиры для других жильцов.
— Тогда прощай… руку дашь?
— В залог будущего, если согласны…
Векшин сверкнул глазами и промолчал, — они разошлись, не оглянувшись.
XXII
По выходе фирсовской повести в свет многими была замечена странная нетвердость авторской руки в рассказе как раз о правилке, — вряд ли это происходило только от внезапного и оправданного в конце концов отвращения к взятому материалу. Какое-то непонятное читателю могущественное обстоятельство угнетало автора при написании этой главы, делало его действующим лицом наряду с прочими персонажами. В повести суд над мнимым предателем был набросан лишь мельком, да и предварительное следствие отличалось не меньшей схематичностью… С относительной полнотой было написано лишь, как ближе к полночи в тот раз Василий Васильевич Панама Толстый заехал на Баташихину мельницу за Машлыкиным, по желанию Фирсова назначенным в исполнители приговора, — Санька Велосипед и курчавый Донька дожидались их в такси, побасенками взаимно усыпляя друг друга в отношении предстоящего; каждый думал, что судить будут его собеседника.
Дальше следовало беглое, даже по языку бедное описанье, как четверо мчатся в старой, почти без рессор машине сквозь безлюдные московские пригороды. Ночь в окне становится темней, а снег белее. Слегка навеселе и поместившийся возле шофера будущий покойник Донька рассказывает анекдоты с перцем крупного помола. Василий Васильевич катается со смеху по кабине, качается на колдобинах, поочередно утесняя то сидящего слева Машлыкина, то Саньку — справа. Этот последний слушает дребезжанье неплотной, неисправной дверцы и бездумно глядит в ночь за окном. Веселья не хватает на всю дорогу, последние километры томительней всего. Шоссе сменяется проселком, и машина останавливается на перекрестке, откуда рукой подать до клином врезанного в поле, чернеющего невдалеке лесишка. На железнодорожной насыпи справа светится зеленая искорка семафора. Четверо деловито, гуськом, по свеженатоптанной тропочке уходят влево, в снежную мглу. При вступлении под деревья Василий Васильевич берет Доньку под локоть, хотя обоим так идти не ловчей. Донька беспокойно оглядывается на спутников, число которых неожиданно увеличивается вдвое. Вдруг все обертывается неотвратимо, как в жутком сне с погонями. На полянке полукольцом топчутся прозябшие, неузнаваемые из-за темени люди. Исподлобья они посматривают на вступающих в круг. Впрочем, всем им скорее жутко, чем холодно.