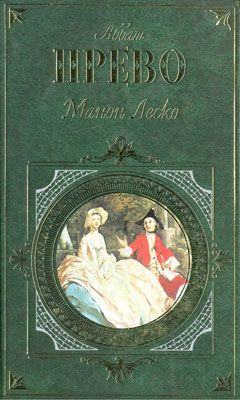Шодерло Лакло - Опасные связи. Зима красоты
Из этой стычки я вынесла довольно зловещую, но утешительную для себя уверенность в том, что умею пользоваться языком, а когда не хватает и его, то руками. В конечном счете, соблазняют ведь и словом и жестом.
Перед тем как отправиться в Сен-Манде, я пристально и подробно исследовала свою новую внешность; хоть это-то я обязана была сделать для Полины. В моем распоряжении не имелось старого пятнистого зеркальца, чтобы рассмотреть рот, в который никогда ничего, кроме пищи, не попадало. Но я все же убедилась в том, что губы мои выглядят пышными, чувственными, зубы — по-негритянски здоровыми и белоснежными. И голос был, как у негритянок, — низкий, хрипловатый. Я тоже пою: «Deep river!» — о, бездонная река былых моих отчаяний!.. Где я отыскала те слова, что приписывала своей Изабель? В мрачной бездне голодного сердца — наследия предков, не правда ли, маркиза?
Как констатировала когда-то Рашель, у меня есть свои достоинства: буйная шевелюра — к счастью, не в мою мать Долорес, длинное стройное тело. Я никогда не ублажала себя вкусной пищей, но это не моя заслуга, просто madre готовила хуже некуда. Мой единственный глаз горит золотым огнем. Не уверена, что меня можно считать красавицей, но я далеко не уродлива. И не красоты искала я под скальпелем Полины. Нет, я — ЖИВАЯ, и это куда интереснее, я вся — движение, вихрь, танец!
В мастерской Рашель я предпочла остаться одна. Это захватывает — оценивать чье-то творчество самостоятельно, а не просто взять да повесить одну из картин на стену.
Я напряженно вглядывалась, размышляла: полотно должно было вызвать у меня внутри огненную вспышку, какая возникает при неодолимом желании завладеть чем бы то ни было — мужчиной ли, произведением ли искусства…
Полина глядела на меня тревожно, почти враждебно, что отнюдь не помогало мне сохранять присутствие духа. Внизу, в кухне, Элен гремела кастрюлями, безразличная ко всему. Я стала лучше понимать ее с тех пор, как она, вновь увидев меня в библиотеке, проворчала, что я молодец, — не забросила работу. Земля не остановится оттого, что вам хочется ее остановить; ни к чему сыпать соль на раны, все равно они заживут, ну и так далее. Это типичная для нее едкая манера говорить жестокие слова — жестокие, пока не встретишься с нею глазами и не поймешь, что эта женщина много чего повидала в жизни и что люди действительно в конце концов все забывают.
А дни становились все длиннее. И я все чаще думала о весне, о магнолиях в саду рядом с домом, где жила Рашель, о самой Рашель, что никогда больше не увидит их, — разве что со стороны корней. Тривиальность случившегося возбраняла слезы, но кто нуждался в моей выдержке?! И я всласть наревелась, пока разглядывала один за другим холсты Рашель, выбирала тот, что запал мне в душу, бережно, не жалея бумаги, заворачивала, запаковывала, обвязывала его. Во всей этой суете сквозь плач было больше горестной сладости, чем горечи.
На «моей» картине изображен был куст пионов, роняющих лепестки в золотисто-черных сумерках, и устремленная к нему фигура… нет, самой фигуры не было, лишь тень на стене. Я сразу почувствовала, что никогда не устану любоваться этими опадающими лепестками и нежным контуром простертой к ним руки.
Подруги сидели внизу за столом, не зажигая света, и молчали. Я сказала — нужно было хоть что-то сказать, настолько довлел надо мною их страх, что мне не понравится ни одна из картин Рашель, — что в городе им, наверное, не будет хватать сада, но Полина умоляюще прервала меня: давай поужинаем в темноте и помолчим, не нужно ничего говорить! Элен только вздыхала — шумно, как печальная корова.
Мало-помалу мы пришли в себя. Убирая со стола фарфоровую супницу, в которой звякала разливная ложка, Элен вслух спросила себя, сможет ли она угадать, какую из картин я выбрала. Полина встала, зажгла свет, — нехотя, но все же…
В самом центре Марэ они подыскали себе четырехкомнатную квартиру на последнем этаже, под крышей, в старинном доме. Половина окон выходила во двор особняка Роганов, другая — в сад, где летом, по их словам, играл какой-то театрик. Квартира, разумеется, требовала ремонта, правда, небольшого. Элен спокойно разъяснила, что это очень кстати: она как раз уходит на пенсию, вернее, «ее уходят» — «мне ведь, знаешь ли, уже пятьдесят семь». Кроме того, в Национальной библиотеке грядут перемены, обновления, и ей вовсе не улыбается глядеть, как весь этот «модернизм» запустит лапу в книги, которые вот уже три века мирно дремлют на своих полках. И она засмеялась: если уж дышать строительной пылью, то лучше в своей квартире, чем там. Полина молчала, нервно стиснув руки.
— Ну а ты?
Ну а она намерена работать. Со мной дело сделано, но на ее век еще хватит всяких «рож». И она будет исправлять их, а результат ее не интересует, пусть сами устраиваются с ними как хотят. И внезапно обе они настороженно замерли, словно испугались моей реакции. Но я промолчала.
Полина пристально вгляделась в меня, потом широко улыбнулась: вот теперь ты стала такой, как я тебя «увидела»; по-моему, в тебе что-то наконец зашевелилось. Я показала ей язык, и мы обе облегченно расхохотались. Стояла такая теплая погода, что впору было расположиться на лужайке, как в первый мой приход. Тень Рашель промелькнула и растаяла во тьме, навеяв на нас мирную грусть, и когда Элен поцеловала меня на прощанье, я поняла, что не скоро увижу их снова: они вошли в тот период отрешенного покоя, где мне не найдется места. Ибо меня ждала ЖИЗНЬ со всеми ее тревогами.
Полина помогла мне водрузить холст на заднее сиденье машины.
— Знаешь, Керия, а ведь эту американскую выставку организовал Барни.
Я вздрогнула.
— Причем организовал втихую, анонимно. И предостерег нас от всякого жулья, разъяснил мне мои права.
Ага… значит, теперь они хотя бы знают, как им себя вести, что подписывать или не подписывать.
Но ему-то это все зачем? Полина облила меня презрением: нет, ты все-таки редкая идиотка! Впрочем, презрение — это слишком сильно сказано, просто моя нерешительность донельзя раздражала ее. Но, как бы там ни было, а Барни правильно сделал, предупредив Полину, и притом вовремя: их уже вовсю осаждали двое нью-йоркских торговцев картинами, которым было в высшей степени наплевать на талант Рашель; они предлагали не выставлять сейчас ее полотна, а подождать лет пять, не меньше, а потом все передоверить им! Поскольку, видите ли, сейчас продажа ее картин весьма проблематична, зато впоследствии они заплатят бешеные деньги.
Полина с удовольствием вышвырнула их вон. Элен оказалась права: человек со всем свыкается, и в этом Полина пошла по общим стопам. Она уже могла без слез разглядывать картины сестры, восхищаться ими. Рашель возрождалась на этих полотнах в фантастических очертаниях, например, корабля, что смотрел с холста, висящего над камином, где горели, вернее, еле тлели толстые поленья.
А я тем временем мечтала о Ресифе — мечтала почти так же неистово, как некогда Изабель; я грезила о нескончаемом карнавале, неумолчной дурманящей музыке, о буйной самбе на крышках холодильников. Что называется, танцевать от печки…
Я звонила куда только могла: в главный офис, на склады, в литейные цеха, словом, во все учреждения, состоящие в концерне «Барни и К°», и повсюду мне отвечали одно: господин президент-директор за границей. Я даже попыталась дозвониться на киностудию «Международный киносоюз», где работал Диэго, а делами заправлял в основном Барни.
Испив сполна эту чашу стыда, я набрала его домашний номер. После гудков и треска в трубке раздался повелительный женский голос, первым делом осведомившийся, КТО звонит. В Кашане, где Барни провел детство, мне ответил чуть насмешливый старческий голос, проскрипевший, что «малыш уехал в Рио, там ведь теперь лето, милая дамочка», и я не осмелилась спросить, с кем говорю… уж не с дядей ли Эндрю. Но сейчас меня обуяла не ведомая ранее уверенность, заставившая произнести в ответ слова, также непривычные для моих уст: «Я кривая сирена».
Наступила пауза. Из трубки донесся шелест перелистываемых бумаг, потом женский голос все так же сухо и решительно спросил, откуда я звоню, не из дома ли. Если так, мне принесут пакет с рассыльным; мистер Барни оставил его на тот случай, если я объявлюсь. И женщина добавила: напомните мне ваш дверной код, боюсь, что я его потеряла.
Мы принадлежали к разным мирам, и она имела полное право насмехаться, пусть даже втихую, над моим дурацким ответом. В моей жизни сирены не разгуливают по улицам и еще способны удивить при встрече. В ее же, кто знает…
Позже, много позже, мадемуазель Одюба, секретарь дирекции, милостиво объяснила мне, с высоты своей компетентности, что когда работаешь с железным ломом, чего только не навидаешься и не наслушаешься — кругом полно всякой швали. Что же до кривых, то там их пруд пруди: попала железная соринка в глаз — и готово дело, никакой врач не поможет. А сейчас мне тонким намеком дали понять, что секретарь — не более чем предмет обстановки, наделенный даром речи и Минителем[114], и говорит она не из квартиры Барни, а из офиса, по параллельному телефону.