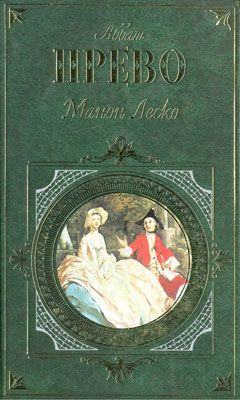Шодерло Лакло - Опасные связи. Зима красоты
Пламя очага освещало их короткими скупыми сполохами. Запахло паленой шерстью. Изабель, внезапно охрипшим голосом, сказала:
— Вы нравитесь мне, генерал Пишегрю!
Они утихомирились, остыли, уселись — осторожно, как выздоравливающие больные. Изабель отложила пистолет: он не заряжен! — и протянула озябшие руки к огню.
— Так чего же вы все-таки добиваетесь?
— Я хочу вернуться домой вместе с племянником и служанками. Впрочем, ненадолго: мой зять плывет сюда, чтобы забрать нас, так что мы очень скоро очистим для вас место, это вопрос нескольких недель, а то и дней. Мебель сожжена… тем хуже, мне придется сожалеть только о портретах.
На сей раз Пишегрю оказался проворнее Изабель; он сорвал ее с кресла, грубо смял чепец и воротник: вы — дьяволица! Я приказал снять оба портрета, они здесь, — и вы, и тот молодой человек!..
Он тяжело, надсадно дышал, он искал взгляд Изабель: снимите свою повязку! — и опять вздрогнул при виде пустой глазницы.
Он был согласен с Изабель: молодую, но некрасивую женщину легче изнасиловать, завернув ей юбку на голову; отчего же он так желает эту, глядя в ее изуродованное лицо?!
Она пожала плечами: просто я люблю мужчин. Почти всех мужчин. И она лукаво улыбнулась: недавно я как раз подумала, что мой рот слишком красив, чтобы оставаться пустым. Неужто вы не понимаете, что наши желания стоят ваших, мужских? Вы берете женщин приступом… о да! Но чем вы завладеваете? Нашей слабостью, нашим вынужденным согласием? Три года назад Эктор изнасиловал меня, а ведь я тогда была ужасна, отвратительна, точь-в-точь, как на том портрете. Он «принудил» меня, он взял меня столько раз, сколько смог. И что же? — разве он получил за это Вервиль и все остальное? Он не только не удовлетворил своего желания — он усугубил его.
— А вы… что вы сделали?
— Я приняла ванну, я отмылась, генерал.
Пишегрю отпустил ее.
— Завтра можете возвращаться домой, я прикажу отменить поиски.
Он был красен как рак. Изабель видела его насквозь и знала, что он не задет; покраснел же потому, что вожделеет к ней, несмотря на мерзкий образ покрывающего ее Эктора. Эти блондины… у них все на лице написано.
Изабель, глядя в старое зеркальце, поправила воротник. Ей вспомнились привычные, испытанные жесты, ласки; от этого мужчины исходил запах гари… или горького миндаля? Она тронула его за плечо:
— Поцелуйте меня!
Он мрачно буркнул: «Нет!» Ах, как он глуп, разве я прошу поцелуя в залог или в знак благодарности? Мне это нужно… ну, я прошу вас!
Она на миг задержалась в его объятиях, часто и глубоко дыша. Когда же он стряхнул с себя оцепенение, вытер мокрый лоб и понял, что поцелуя ему мало, она уже бесшумно переступила порог, безразличная… нет, не то, — спешащая к… в общем, он услышал звяканье дверного кольца и тогда лишь уразумел, что она ушла — так же внезапно, как появилась. Ночь только-только начиналась; уж не сон ли ему привиделся? Да нет… эта шлюха укусила его. Она добилась своего, обвела его вокруг пальца, одурачила и оставила здесь — растерянного и… о нет, он ей, конечно, не поддался! И он подумал со злорадной усмешкой: «Она ждет этого своего зятька, словно мессию; ну что ж, он, Пишегрю, желает ему получить удовольствие». Рот у него слегка кровоточил от… от удовольствия.
Назавтра, когда Эктор заявился к дому Арматора, он увидел там двух солдат, помогавших Хендрикье вытаскивать ведра из колодца; обе служанки выметали солому из комнат, ворча, что с этой подлой войной забот не оберешься, вон как загадили дом! Генерал велел передать Эктору, что отныне тому придется улаживать свои дела самому, а он с армией идет на Амстердам. Было 18 января 1795 года.
* * *Мне ужасно хочется, чтобы кто-нибудь поколотил негодяя Эктора, но кто за это возьмется?! Впрочем, он получил по заслугам, умерев двадцать лет спустя в Вене, в полной нищете. Талейран[112] упоминает о нем в своих мемуарах: «На Пратере, в толпе калек-ветеранов множества бессмысленных баталий, я приметил господина де Мертея, что командовал при Людовике XV драгунским полком, а при Людовике XVI — шайкою наемников, из тех, чьи никчемные услуги оплачиваются всегда слишком дорого. С тех пор он не сделался ни умнее, ни благообразнее. Его злобные маленькие глазки становятся маслеными при виде молодых людей в тесно облегающих панталонах. Сразу ясно, насколько справедливы слухи, о нем ходившие; одни эти черные губы чего стоят! Шрам шириною в палец безобразно искривил его глаз и щеку. Разумеется, он подскочил к моей карете, встретив меня угодливым “господин Перигор!” и тотчас развеяв все мои иллюзии на его счет. Бравые агенты князя Меттерниха впились в меня глазами. Стоило мне лишь повести бровью, чтобы Мертея наказали примерно, как и прочих опрометчивых болванов, которые не дают мне прохода со времени моего так называемого “предательства”. Мертей опоздал родиться ровно на одно царствование — опоздал, как это случалось с ним всю жизнь. Наш милый Клеменс вовсю старается задобрить Францию в моем лице, и я отлично понимаю зачем. Но меня так просто не провести. Я умею обращаться с господами, подобными Мертею: я бросил десять талеров в его подставленную шляпу с облезлым пером; самое мерзкое — то, что он их принял».
Мои раздумья прервал звонок Полины. Они с Элен покидали домик в Сен-Манде и перебирались в четырехкомнатную квартиру в Марэ[113]. «Приезжай, выбери себе картину, — сказала она, — мне, правда, трудно с ними расставаться, но надо привыкать. Американские покупатели шуруют вовсю, они организовали выставку-продажу, чтобы заморозить цены, я-то знаю эти штучки; Рашель наверняка отказалась бы от подобных махинаций, но мне уже на все наплевать, я больше не в силах смотреть на них, просто не в силах. Каждый раз начинаю реветь, и каждый раз меня выбивает это из колеи на целый день. Керия, я больше не могу!»
Она говорила без остановки, не давая мне вставить ни слова; наконец я заорала в трубку: «Да замолчи ты, черт возьми, я еду!»
Сердце мое бешено билось. Когда зазвонил телефон, я подпрыгнула от неожиданности и… услышала в трубке истерический голос Полины… не тот голос, который я ждала.
Барни привез меня из Германии две недели, нет, пятнадцать дней назад, и с тех пор пятнадцать веков наваливались на меня каждое утро невыносимым гнетом, невзирая на работу, невзирая на Изабель, невзирая на письмо Диэго и визит madre. Я словно сорвала в январе оливку с ветки — вкусную, переспелую… а, собственно, для чего она спела, неужто для такого же одиночества, как раньше? Стоило менять себе физиономию, если не изменились ни душа, ни сумрачное нетерпение, одолевающее меня при каждом мужском взгляде!
Диэго захлебывался от упоения. Я ровно ничего не понимала в его рассказах о тамошней жизни; каждый эпизод тонул в восторженных отклонениях: он буквально ВЛЮБЛЕН в гасиенду; он намерен строить склад-холодильник; он ОБОЖАЕТ здешний народ, людей приезжает все больше и больше, вот уже два века «Жунсао» — их маяк, их путеводная звезда; внедрять холодильные установки в здешних местах — истинное мучение, но все равно, сюда нужно ехать, он уверен, что работа найдется для всех; Барни пишет, что я настоящая стерва с гадючьим характером: что ты ему сделала, этому бедняге? Местные женщины изменчивы и зыбки, как дюны; их тела нежны до слез, они поют, они танцуют; кухня здесь однообразная и тяжелая, но холодильники все это переменят, а Барни трудится, как вол, он потрясающе деловой тип, пообещал мне целый десяток холодильников по бросовой цене, а какие красотки разгуливают здесь на плантациях сахарного тростника! Барни отлично танцует, девчонки от него просто без ума!
Письмо завершалось раздраженной фразой: ты даже не удосужилась объяснить ему, что зарабатываешь на жизнь переводами для фирм по импорту-экспорту!
Можно подумать, это кого-то интересует; можно подумать, что перевод на четыре языка инструкции по пользованию японским вибромассажером являет собою повод для восторгов!
Ну а madre — та высказалась куда более определенно: «Ты ОПУСТИЛАСЬ до какого-то торговца железным ломом! Вспомни, дочь моя, ты ведь из рода Хагуэносов…»
Не могу понять, почему я до сих пор щадила их — ЕЕ Хагуэносов.
— Когда входишь в семью с помощью двойного взлома, желательно помалкивать. Ты вышла за старика ради Имени, а за молодого — ради мошны старика, так ведут себя только шлюхи. Я всего лишь ваша дочь, madre.
Она замкнулась в непробиваемом достоинстве, всю смехотворность которого я наконец-то разглядела. Я вежливо открыла ей дверь. На площадке (уж к ней-то этот чертов лифт не спешил!), где нужно было о чем-то говорить, она злобно бросила, что отречение от родных не добавит мне ни красоты, ни привлекательности. На сей раз я ответила ей пощечиной, даже двумя, — медлительный лифт предоставил мне такую возможность.