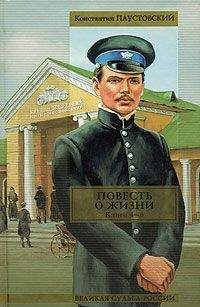Константин Паустовский - Повесть о жизни. Книги 1-3
«Ну, – думаю, – пропал!» Главное – чистота ее меня убила. Яблоня вот так цветет – вся в благоухании. И сразу тоска у меня началась, – даже застонал я от нее. Хоть бейся головой об стенку и вой от той мысли, что сойдет она в Симбирске, а ты останешься на пароходе со своим поганым расколотым сердцем. Но пока терплю, считаю часы, – до Симбирска все-таки двое суток ходу. Подаю ей что ни на есть самое лучшее, даже повару пообещал косушку, чтобы он пошикарнее делал гарнир. А она, понятно, неопытная и этого не замечает. Совсем молоденькая женщина, ну просто девочка. Пробовал разговор с ней завести, хотя нам, кельнерам, это, безусловно, запрещалось. Закон был такой – подавай молча, быстро, а в разговоры с господами пассажирами, кувшинное твое рыло, не ввязывайся, не смей об этом и мыслить. Ты есть лакей и держи себя в соответствии: «слушаюсь», «сию минуту-с», «прикажете подать», «покорнейше благодарю» (это когда сунут на чай).
Все никак не выберу времени с ней заговорить, – второй кельнер Никодим вокруг носится. Наконец мне пофартило, – Никодим ушел на кухню. Я ее тотчас спрашиваю: «Куда изволите ехать?» Она подняла на меня глаза – темные, серые, а ресницы как бархатная ночь, и отвечает: «В Симбирск. А что?» Вот этим «а что?» она меня окончательно смутила. «Да ничего, – говорю. – Только хочу вас упредить, что вы, видать, едете одна, а на пароходе разный народ бывает. Можно сказать, грязный народ, бессовестный, особенно касается беззащитных молодых женщин». Она посмотрела на меня, сказала «я знаю» и улыбнулась. И тут я понял, что за каждую ее улыбку я всю кровь по каплям отдам и никто даже стона моего не услышит.
Больше не пришлось мне с ней поговорить. Я, конечно, цветы с двух-трех столиков на ее столик нарочно переставляю, – хоть этой малостью, думаю, дам ей понять, что мила она мне больше всех на свете. А она вроде как тоже не замечает.
Перед самым Симбирском Никодим вдруг заскандалил. Да еще при ней. «Ты чего это, говорит, мои цветы к себе таскаешь! Какой тюльпан отыскался!» Она, конечно, догадалась, покраснела, но глаз не подняла.
Ты мне верь. Я тебе одному это рассказываю первый раз в жизни. Шпане не расскажешь. Она враз все опоганит, а у меня ничего лучшего в жизни не было, матерью-старухой клянусь. И какой я ни есть заблатованный и, можно сказать, вполне честный вор, но я до такой подлости, чтобы про это шпане рассказать, не дойду. Веришь?
– Верю, – ответил я. – Рассказывай до конца.
– Конца еще не было, – сказал шустрый и повторил с неожиданной угрозой в голосе. – Не было конца! А я так думаю, что он будет. И ты не вправе меня в сомнение вводить. Ты меня не сбивай. Да... Наутро пароход наш должен подвалить к Симбирску, а у меня в голове – не поймешь что! Одно только знаю – не расстанусь я с ней теперь. Хоть издали, хоть тишком, а буду ходить следом до самой своей подлой смерти. Немного мне было надо. Только один воздух с ней вдыхать. Потому что другой воздух для меня будет отравой. Ты это можешь понять? Ты всякие книги про любовь читал, – там это сказано. Да! К утру у меня уже верный план был в голове, чего мне делать. Ночью я выкрал выручку из кассы у ресторатора, а как подвалили к Симбирску – в чем был, в одном своем лакейском фрачишке – сбежал на берег, будто купить на базаре редиски. Так и остался.
Деньги на первое время были, а одежда, конечно, на мне подозрительная. Купил я пиджачок. Выследил ее, конечно. И на мое счастье, наискосок от дома, где она жила у своей бабушки, – старый такой дом с садом и крыжовником, – так вот чуть наискосок стоял трактир. Небогатый такой трактир, маленький, даже без канареечного пения. Засел я в этом трактире крепко. Придумал историю, что договорился с товарищем гусей в Симбирске покупать, а товарищ запоздал, не едет. Вот и сижу, скучаю здесь, дожидаюсь. Того не сообразил, что гусей скупают по осени, а не летом.
– Ну и что ж, видел ее? – спросил я.
– Видел. Два раза. Прошла она сквозь душу и все начисто с собой унесла. Ничего я тогда не соображал. Одно только и знал, что радовался. Она, конечно, ничего не подозревала, да и забыла, должно быть, про меня, – человек я на вид неприятный, сам знаю – зубы как у хорька, а глаза мышиные. И всё бегают, проклятые. Вырвал бы я их к чертям! Красоту не наживешь и не уворуешь, как ни старайся.
Петлюровский пулемет дал с опушки леса короткую скучную очередь и заглох.
– Чепуха это все, – сказал шустрый. – И гетман и петлюровцы. И вся эта заваруха, это трепыхание. На кой черт все это делается, не пойму. Да и охоты нет понимать.
Он замолчал.
– Ну что ж ты, – сказал я. – Начал рассказывать и бросил.
– Нет, я не бросил. Прожил я в Симбирске всего десять дней, а потом хозяин трактира – больной был человек, хороший – подозвал меня как-то и говорит шепотком: «Тут сыщики, в общем лягаши, об тебе спрашивали. Смотри, парень, как бы не схватили тебя сегодня. Ты вор?» – «Нет, говорю, я не вор и никогда им не был, кабы не любовь к женщине». – «Суд любовь к женщине в расчет не берет. Не юридическая величина. Ты сюда больше не ходи. Остерегайся». А я решил – нет, в тюрьму я не сяду. Мне нужна сейчас вольная воля, чтобы ее не потерять, эту женщину. Надо завертеться, запутать свои следы.
Уехал я в тот же день в Сызрань, чтобы отсидеться, а там меня на третий день и взяли, как сопливого урку. Судить повезли на пароходе в Самару. Двое конвойных при мне. Подходим к Симбирску. Я глянул из окошка, а с реки видно тот дом и сад, где она живет. Прошу конвойных: «Сведите меня в буфет в третьем классе, я второй день не евши». Ну, сжалились, конечно, повели. Я тихо заказал буфетчице стакан водки. Она мне налила. Я разом выпил, а потом раздавил стакан вот в этой руке и осколками начал все лицо себе резать, драть. Будто умылся теми кровавыми стеклами. От невыносимой тоски. Кровью всю стойку залил. С тех пор и шрамы остались на морде, прибавилось красоты.
– Ну, а потом? – спросил я.
Шустрый посмотрел на меня, длинно сплюнул и ответил:
– Будто не знаешь. Потом – борщ с дерьмом. Давай пачку «Сальве», а то возьму тебя за шейную жилу – у меня хватка верная – не успеешь и дернуться. Я тебе наврал, фрайер. А ты враз и рассопливился.
Я дал ему пачку папирос «Сальве».
– Ну все! – сказал он, встал и медленно пошел вдоль окопа. – А проговоришься шпане хоть сейчас, хоть через тридцать лет – пришью беспощадно. Стихи небось соображаешь: «Ах, любовь, это сон упоительный».
Я не мог понять этой внезапной злобы и смотрел ему в спину.
В рассветной мути со стороны Киева возник воющий свист снаряда. Мне показалось, что снаряд идет прямо на нас. И я не ошибся.
Снаряд ударил в бруствер, взорвался с таким звуком, будто воздух вокруг лопнул, как пустой чугунный шар. Осколки просвистели стаей стрижей. Шустрый удивленно повернулся, ткнулся лицом в стенку окопа, выплюнул с кровью последнюю матерщину и сполз в глинистую лужу, перемешанную со снегом. По снегу начало расплываться багровое пятно.
Второй снаряд ударил около «лисьей норы». Из блиндажа выскочил «пан сотник». Третий снаряд снова попал в бруствер.
– Свои! – закричал рыдающим голосом «пан сотник» и погрозил в сторону Киева. – Свои обстреливают! Идиоты! Рвань! В кого стреляете? В своих стреляете, халявы!
«Пан сотник» повернулся к нам:
– Отходить на Приорку. Живо! Без паники! К чертовой матери вашего гетмана.
Перебежками, ложась каждый раз, когда нарастал свист снаряда, мы спустились на Приорку. Первыми, конечно, бежали «моторные хлопцы».
Оказалось, что гетманская артиллерия решила, будто наши окопы уже заняты петлюровцами, и открыла по ним сосредоточенный огонь.
Выходя из окопа, «пан сотник» переступил через шустрого и, не оборачиваясь, сказал мне:
– Документы на всякий случай возьмите. Может, найдутся родные. Все-таки был человек, не собака.
Шустрый лежал вниз лицом. Я перевернул его на спину. Он был еще теплый и, несмотря на худобу, тяжелый. Осколок попал ему в шею. Вытатуированные на ладони синие женские губы, сложенные бантиком, были измазаны кровью.
Я расстегнул на шустром голубую австрийскую шинель и вытащил из кармана гимнастерки потертое, очевидно, фальшивое удостоверение и пустой конверт с адресом: «Симбирск, Садовая улица, 13. Елизавете Тенишевой».
Потрепанные и поредевшие гетманские части начали стягиваться на засыпанную трухой от соломы площадь среди Приорки.
Жители Приорки высыпали на улицы и с нескрываемым злорадством обсуждали отход сердюков.
Но, несмотря ни на что, по городу спокойно разъезжали на сытых гнедых лошадях отряды немецких кавалеристов. Гетман или Петлюра – немцам было все равно. Прежде всего должен соблюдаться порядок.
На Приорской площади мы по приказу «пана сотника» свалили в кучу винтовки и патроны. Немцы тотчас подъехали к этому оружию и начали его невозмутимо охранять. На нас они даже не посмотрели.