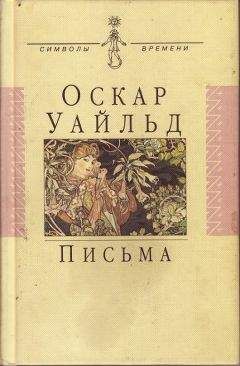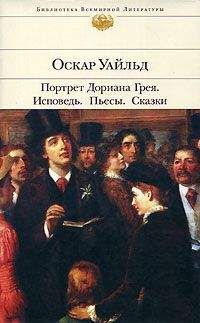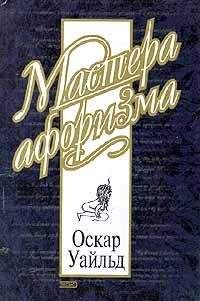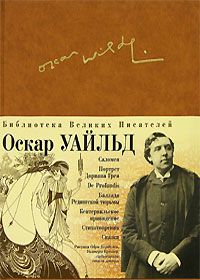Оскар Уайльд - De Profundis
Ах! если бы ты попал в тюрьму — нет, не по моей вине, одна эта мысль наводит на меня невыносимый ужас, — но по собственной вине, по собственной оплошности, из-за доверия к ложным друзьям, из-за того, что ты оступился в трясине низменных страстей, доверился кому не следовало, полюбил того, кто недостоин любви, — словом, по всем этим причинам или вовсе без причин, — неужели ты думаешь, что я допустил бы, чтобы ты истерзал свое сердце во мраке и одиночестве, и не попытался бы хоть как-нибудь, хоть на самую малость разделить с тобой горькое бремя твоего позора? Неужели ты думаешь, что я не сумел бы дать тебе знать, что, если ты страдаешь, я разделяю твое страдание; если ты плачешь, мои глаза тоже полны слез; и если ты брошен в темницу и заклеймен людским презреньем, я воздвиг из своей печали дом, где буду ждать твоего прихода, сокровищницу, где все, в чем тебе отказали люди, стократно умножившись, будет готово принять и исцелить тебя. Если бы горькая необходимость или осторожность, которая для меня еще горше, помешала бы мне быть рядом с тобой, лишила бы меня радости видеть тебя — пусть сквозь железные прутья, в постыдном обличье, — я писал бы тебе, ни с чем не считаясь, в надежде, что хоть одна фраза, хоть единое словцо, хоть полузадушенное эхо голоса любви пробьется к тебе. Если бы ты не захотел принимать мои письма, я все равно писал бы тебе, и ты, по крайней мере, знал бы, что эти письма ждут тебя. Многие так писали мне. Каждые три месяца люди пишут мне или просят разрешения писать. Эти письма и записки до меня не доходят. Но их вручат мне, когда я выйду из тюрьмы. Я знаю, что они где-то лежат. Я знаю имена людей, их написавших. Я знаю, что эти письма полны сочувствия, доброты и приязни. И этого вполне достаточно. Мне не нужно знать ничего больше. Твое молчание было ужасно. И это молчание тянулось не неделю, не месяц — оно тянулось годами; годами даже в исчислении тех, кто, подобно тебе, кружится в вихре радости и едва способен угнаться за бегом дней, проносящихся золотыми стопами в пляске, и едва переводит дыхание в погоне за наслажденьем. Твоему молчанию нет оправданья; это молчанье простить невозможно. Я знал, что ты ненадежен, как статуя на глиняных ногах. Кому было знать лучше? Когда я в своих афоризмах написал, что золото кумира ценится только потому, что ноги у него из глины, я думал о тебе.[59] Но не золотого кумира на глиняных ногах сотворил ты себе. Из дольнего праха проезжих дорог, размолотого в грязь копытами скота, ты вылепил своего двойника и поставил перед моими глазами, и теперь, какие бы желания я ни питал в глубине сердца, я не смогу испытывать при виде тебя ничего, кроме презренья и гнева. И даже если отбросить все другие причины, одно твое равнодушие, твоя житейская цепкость, твое бессердечие, твоя осмотрительность, как бы ты ее ни называл, — все это стало для меня вдвое горше из-за тех особых обстоятельств, которые сопровождали мое падение или следовали за ним.
Другие несчастные, брошенные в тюрьму, тоже лишены всей прелести мира, но они, по крайней мере, хоть отчасти защищены от этого мира, от его самых убийственных пращей, самых смертельных стрел. Они могут затаиться во тьме своих камер и самым своим позором обеспечить себе право убежища. Мир, свершив свой суд, идет своим путем, а их оставляет страдать без помех. Со мной было иначе. Беда за бедой стучалась у тюремных дверей, разыскивая меня; и перед ними открыли ворота во всю ширь и впустили их. Друзьям моим чинили всяческие препоны, если вообще допускали их ко мне. Но мои враги всегда могли иметь ко мне доступ — два раза во время дела о банкротстве; и дважды, когда меня переводили из одной тюрьмы в другую, я был выставлен на поругание перед глазеющей толпой и испытал неслыханное унижение. Гонец Смерти принес мне свою весть и пошел своим путем; и в полном одиночестве, вдалеке от всего, что могло бы утешить меня или облегчить мое горе, мне пришлось нести непосильное бремя отчаяния и угрызений совести, которое я несу и до сих пор при воспоминании о моей матери. Едва время успело — нет, не излечить эту рану, а только притупить боль, — как начали приходить обидные и резкие письма от поверенных моей жены. Я опозорен, мне грозит нищета. Это я еще мог бы вынести. Я могу приучить себя и к худшим лишениям; но вот закон отнимает у меня обоих сыновей. И это стало и навсегда останется для меня причиной безысходного отчаяния, безысходной боли и горя без конца и края. Закон решил и взял на себя право решать, что общение со мной вредно для моих собственных детей, — это для меня просто чудовищно. Позор тюрьмы перед этим — ничто. Я завидую всем тем, кто ходит вокруг тюремного двора рядом со мной. Я уверен, что их дети ждут не дождутся их возвращенья и радостно бросятся им навстречу.
Бедняки мудрее, они более милосердны, добры и чутки, чем мы. В их глазах тюрьма — трагедия человека, горе, несчастный случай, нечто достойное сочувствия ближних. О человеке, попавшем в тюрьму, они говорят, что с ним «стряслась беда», и все. Так они говорят всегда, и в этом выражении заключена вся совершенная мудрость любви. У людей нашего класса все по-иному. У нас тюрьма превращает человека в парию. Такие, как я, едва имеют право дышать и занимать место под солнцем. Наше присутствие омрачает радости других. Когда мы выходим на свободу, мы везде — нежеланные гости. Нам не пристало любоваться бликами луны. Даже детей у нас отбирают. Расторгаются самые прекрасные человеческие связи. Мы обречены на одиночество, хотя наши сыновья еще живы. Нам отказано в том единственном средстве, которое способно поддержать нас, приложить целебный бальзам к истерзанному сердцу, умиротворить изболевшуюся душу.
И ко всему этому надо добавить еще один незначительный, но жестокий факт: своими действиями и своим молчанием, тем, что ты сделал и что оставил несделанным, ты отяготил каждый день моего долгого заточения лишним грузом. Даже хлеб и вода — мой тюремный паек — изменились из-за тебя. Хлеб стал горьким, и вода — затхлой. Ты удвоил то горе, которое должен был разделить, а боль, которую должен был облегчить, ты обострил до предела. Я не сомневаюсь, что ты этого не хотел. Я знаю, что ты этого не хотел. Это был всего-навсего «один поистине роковой недостаток твоего характера — полнейшее отсутствие воображения».
И в конце концов мне придется простить тебя. Я должен тебя простить. Я пишу это письмо не для того, чтобы посеять обиду в твоем сердце, и не для того, чтобы вырвать ее из своего сердца. Я должен простить тебя ради себя самого. Нельзя вечно согревать на груди змею, которая тебя гложет; нельзя вставать еженощно и засевать терниями сад своей души. Мне вовсе нетрудно будет простить тебя, если ты мне хоть немного поможешь. В прежние времена я легко прощал тебе все, что бы ты ни вытворял. Тогда это не пошло тебе на пользу. Прощать прегрешенья может только тот, чья жизнь чиста и ничем не запятнана. Но теперь, когда я предан бесчестью и унижению, все переменилось. Для тебя очень важно, чтобы я простил тебя. Когда-нибудь ты это поймешь. И рано или поздно, теперь или никогда, в какой бы срок ты это ни понял, мой путь для меня ясен. Я не могу допустить, чтобы ты прожил жизнь, неся на сердце тяжкий груз сознания, что ты погубил такого человека, как я. От этой мысли тобой может овладеть холодное бесчувствие или убийственная тоска. Я должен снять с тебя этот груз и переложить его на свои собственные плечи. Я должен напомнить себе, что ни ты, ни твой отец, будь хоть тысяча таких, как вы, не в силах погубить такого человека, как я; я сам навлек на себя гибель, — каждый, как бы он ни был велик или ничтожен, может погибнуть лишь от собственной руки. Я готов это признать. Я стараюсь признать это, хотя сейчас ты, может быть, этого и не заметишь. Но если я и бросаю тебе безжалостные упреки, подумай, как беспощадно я осуждаю самого себя. Какое бы ужасное зло мне ни причинили, то, что я сам сделал с собой — ещё ужаснее.
Я был символом искусства и культуры своего века. Я понял это на заре своей юности, а потом заставил и свой век понять это. Немногие достигали в жизни такого положения, такого всеобщего признания. Обычно историк или критик открывают гения через много лет после того, как и он сам, и его век канут в вечность, — если такое открытие вообще состоится. Мой удел был иным. Я сам это чувствовал и дал это почувствовать другим. Байрон был символической фигурой, но он отразил лишь страсти своего века и пресыщение этими страстями. Во мне же нашло свое отражение нечто более благородное, не столь преходящее, нечто более насущное и всеобъемлющее.
Боги щедро одарили меня. У меня был высокий дар, славное имя, достойное положение в обществе, блистательный, дерзкий ум; я делал искусство философией, и философию — искусством; я изменял мировоззрение людей и все краски мира; что был я ни говорил, что бы ни делал — все повергало людей в изумление; я взял драму — самую безличную из форм, известных в искусстве, и превратил ее в такой же глубоко личный способ выражения, как лирическое стихотворение, я одновременно расширил сферу действия драмы и обогатил ее новым толкованием; все, к чему бы я ни прикасался, — будь то драма, роман, стихи или стихотворение в прозе, остроумный или фантастический диалог, все озарялось неведомой дотоле красотой; я сделал законным достоянием самой истины в равной мере истинное и ложное и показал, что ложное или истинное — не более, чем обличья, порожденные нашим разумом. Я относился к Искусству, как к высшей реальности, а к жизни — как к разновидности вымысла; я пробудил воображение моего века так, что он и меня окружил мифами и легендами; все философские системы я умел воплотить в одной фразе и все сущее — в эпиграмме.