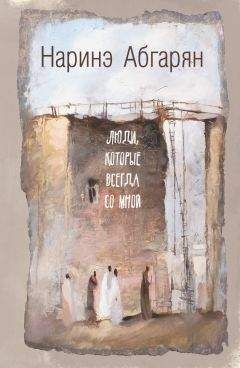Оноре Бальзак - Патология общественной жизни
Как все бедолаги, кому на роду написано стать учеными, я мог по пальцам пересчитать незамутненные радости. Первым и потому самым красивым, а коль скоро самым красивым, то, следственно, и самым обманчивым плодом моих изысканий явилось сообщение астронома господина Савари[155] о том, что итальянец Борелли уже написал большой труд «De actu animalium» («О повадках животных»).
Как я был счастлив, найдя книгу Борелли на набережной[156]! Каким легким показался мне том ин-кварто, когда я нес его под мышкой! С каким нетерпением я его раскрыл! Как поспешно стал я его переводить! Все это невозможно описать. Я так любовно штудировал его! Борелли был для меня, как Варух для Лафонтена[157]. Как доверчивый влюбленный, я не замечал ни пыли, оставленной на страницах книги бурями, которые потрясли Париж, ни подозрительного запаха, исходящего от обложки, ни крошек табака, застрявших между листами еще в те времена, когда она принадлежала старому доктору, к которому я ревновал, читая надпись, сделанную дрожащей рукой: «Ex libris Ангара[158]».
Бррр! Когда я прочел Борелли, я отбросил Борелли, я проклял Борелли, я презрел старика Борелли, который ничего не говорил мне de actu, как молодой человек, встретив через много лет свою первую любовь, опускает голову, неблагодарный! Ученый итальянец, обладающий терпением Мальпиги[159], долгие годы испытывал различные приспособления, установленные природой в нашей мускульной системе, определяя их мощность. Он неопровержимо доказал, что внутренний механизм реальных сил, заложенных в наших мускулах, рассчитан на усилия, в два раза превышающие те, которые мы хотели совершить.
Несомненно, этот итальянец — самый ловкий рабочий подвижной оперной сцены по имени человек. Проследив в его произведении за действием наших рычагов и противовесов, оценив, с какой предусмотрительностью создатель снабдил нас природными балансирами, дабы мы могли принимать разные позы, невозможно не рассматривать людей как неутомимых канатных плясунов. Кроме того, меня не очень-то занимали способы, я хотел узнать причины. Насколько они важны? Судите сами. Борелли действительно объясняет, почему человек, потерявший равновесие, падает; но он ничего не говорит о том, почему зачастую человек не падает, если умеет пользоваться скрытой силой и приводить в сокращение мышцы своих ног.
Когда первый приступ гнева прошел, я воздал Борелли должное. Мы обязаны ему знанием человеческого поля, иными словами, окружающего пространства, в котором мы можем двигаться, не теряя равновесия. Конечно, достоинство человеческой походки должно прежде всего зависеть от того, каким образом человек удерживает равновесие в той сфере, за пределами которой он падает. Кроме того, мы обязаны знаменитому итальянцу любопытными изысканиями в области внутренней динамики человека. Он сосчитал трубы, через которые проходит движущий флюид, эта неуловимая воля, приводящая в отчаяние мыслителей и физиологов; он измерил его силу; он отметил его воздействие; он щедро раскрыл тем, кто, пользуясь его достижениями, захочет пойти дальше него сквозь тьму к свету, материальное воздействие, которое обыкновенно оказывают на тело наши волнения; он взвесил мысль и показал, что результаты, достигнутые человеком, не соответствуют его мускульному механизму и в нем заложены силы, которые обеспечивают этому механизму мощность гораздо большую, чем его исконная мощность.
С тех пор я оставил Борелли, уверенный, что знакомство и беседа с этим гением были небесполезными, и обратился к ученым, которые недавно занимались жизненными силами человека. Но увы! Все они походили на геометра, который берет свой аршин и измеряет глубину пропасти, меж тем как я хотел заглянуть в бездну и постигнуть все ее секреты.
Сколько размышлений бросил я в эту пропасть, как мальчишка, который кидает камни в колодец, чтобы услышать, как они упадут на дно! Сколько вечеров скоротал я, устроившись на мягких подушках и созерцая причудливые очертания облаков, освещенных закатным солнцем! Сколько ночей провел я без сна, моля о вдохновении, но тщетно. Безусловно, самая прекрасная, наиболее полная и наименее чреватая разочарованиями жизнь — жизнь возвышенного безумца, который пытается вычислить неизвестную величину в уравнении с воображаемыми корнями.
Когда я все узнал, я понял, что ничего не знаю, но я хожу!.. Человек, не обладающий моей грудной клеткой, моей шеей, моей черепной коробкой, с горя лишился бы разума. По счастью, второй возраст моей идеи подошел к концу. Когда я слушал дуэт Тамбурини и Рубини в первом действии «Моисея»[160], теория моя явилась мне нарядной, радостной, трепетной, красивой куртизанкой, которая послушно улеглась у моих ног, словно боясь, что неумеренным кокетством убила мою любовь.
Я решил просто наблюдать, какое впечатление производят движения человека, какова бы ни была их природа, записывать и классифицировать их; когда мой анализ будет завершен, я хотел вывести законы идеально прекрасного[161] в области движения и составить свод правил для любознательных людей, желающих дать правильное представление о себе, своих нравах и своих привычках; мысль моя была такова: походка — верное отражение мысли и жизни.
Итак, я собрался отправиться на следующий день на Гентский бульвар[162], сесть на стул и изучать походку всех парижан, которым, на свое несчастье, предстояло пройти мимо меня.
В этот день я сделал самые глубокие и любопытные наблюдения за всю мою жизнь. Я вернулся, сгибаясь под тяжестью моих открытий, как ботаник, который, собирая гербарий, нарвал столько растений, что ему приходится отдать их первой же корове, какая попалась ему навстречу. Мне показалось, что опубликовать «Теорию походки» можно не иначе как в десяти или двенадцати томах, сопроводив ее тысячей семьюстами гравюрами, а также снабдив примечаниями, которые ужаснули бы покойного аббата Бартелеми[163] или моего ученого друга Паризо[164].
Найти, чем грешат порочные походки.
Открыть законы, неукоснительное соблюдение которых обеспечивает красивую походку.
Отыскать способы заставить походку лгать, как придворные, честолюбцы, мстительные люди, актеры, куртизанки, неверные супруги, шпионы заставляют лгать черты своего лица, глаза, голос.
Выяснить, хорошо ли ходили древние, какой народ ходит лучше всех; влияют ли на походку почва и климат.
Бррр! Вопросы налетели, как саранча! Нечего сказать, благодатная тема!
Гурман, снимая лопаткой кожу с сига из озера Бурже, шербурской барабульки или окуня из Эндра; вонзая нож в тушу косули, как иногда поступают в лесу, чтобы затем продолжить свои упражнения на кухне, — так вот, вышеназванный гурман не испытывал такой радости, какую испытал я, когда смог совладать со своим предметом. Пристрастие к интеллектуальным лакомствам — самая сладостная, самая всепоглощающая, самая недобрая страсть: она включает в себя критику — выражение самолюбия, завидующего наслаждениям, которые оно получило.
Искусство требует, чтобы я объяснил здесь истинные причины отрадной литературной или философской девственности, которая предлагает вниманию всех добрых людей «Теорию походки»; затем я должен прямо сказать, что не хочу быть в ответе за пустую болтовню, если не могу подтвердить свои рассуждения полезными наблюдениями.
Один пражский монах по имени Рейхлин, чью историю описал Маркомарци[165], имел такое тонкое, такое наметанное обоняние, что мог отличить непорочную девушку от женщины и мать семейства от бездетной женщины. Я привожу именно эти примеры его незаурядной чувствительности, потому что они довольно любопытны и дают представление обо всех остальных.
Слепой, которому мы обязаны прекрасным письмом Дидро[166], написанным, заметим в скобках, за двенадцать ночных часов, обладал таким глубоким знанием человеческого голоса, что заменил зрение слухом и узнавал характер человека по интонациям его голоса.
Тонкость восприятия сочеталась в обоих этих людях с тонкостью ума, особым талантом. Совершенно исключительная наблюдательность, которой они были одарены, послужит мне примером и поможет объяснить, почему некоторые области психологии мало изучены и почему людям приходится от них отступаться.
Наблюдатель, бесспорно, в первую очередь — человек гениальный. Все человеческие изобретения происходят из аналитического наблюдения, в котором ум с невероятной быстротой выносит суждение. Галль, Лафатер, Месмер, Кювье, Лагранж, доктор Меро, которого мы недавно потеряли, предшественник Бюффона Бернар Палисси, маркиз Ворчестер[167], Ньютон, наконец, великий художник и великий музыкант — все они наблюдатели. Все идут от следствия к причине, меж тем как другие люди не видят ни причины, ни следствия.