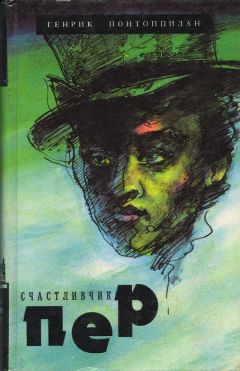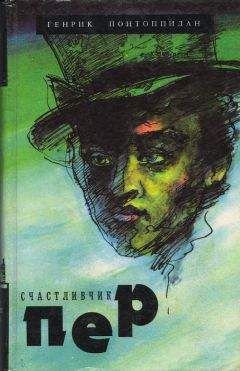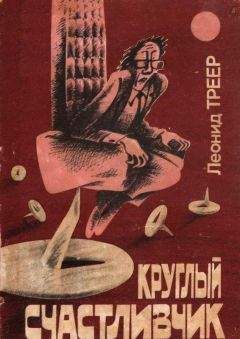Генрик Понтоппидан - Счастливчик Пер
Пер не без труда отыскал стоячее место у стены. Из длинного ряда окон на противоположной стене падали широкие полосы света, окружая, словно нимбом, головы сидящих вдоль прохода. Из этих освещенных голов одна то и дело оборачивалась в сторону Пера, но он этого не замечал. Только когда запели второй псалом, Пер почувствовал этот пристальный взгляд, увидел светлые глаза под темными сросшимися бровями и вздрогнул, узнав свою сестру Сигне. Рядом сидели младшие братья-близнецы, тесно прижавшись друг к другу и глядя в общий молитвенник. Они его, судя по всему, пока не заметили.
Вся кровь бросилась ему в лицо, он даже не сразу сумел ответить на кивок сестры. Ему и в голову не приходило, что он может встретить здесь кого-нибудь из родных. И вообще он совсем забыл, что рискует попасться на глаза знакомым. Сигне, напротив, держалась как ни в чем не бывало. Не прерывая пения, она спокойно кивнула ему еще раз с таким видом, будто она из воскресенья в воскресенье ждала, когда он наконец придет сюда.
Правда, на другой же день после прибытия в Копенгаген Пер отправился на Кунгевей, чтобы повидать родных, но, не застав никого дома, почувствовал большое облегчение и вторичной попытки предпринимать не стал. Он не знал, как сказать им о том, что его помолвка расторгнута, и вообще обо всем, что с ним произошло за это время. Он боялся прочесть в их глазах торжество победителей; именно это торжество он искал теперь и на лице сестры.
Пение окончилось, пастор взошел на кафедру. Но Пер уже не мог сосредоточиться. Второй выход в церковь оказался не более удачным, чем первый, в Борупе. Как он ни старался собрать воедино свои мысли, они непослушно разбрелись в стороны.
К тому же он вдруг плохо себя почувствовал. Все последние дни ему нездоровилось. Опять вернулись прежние боли под ложечкой, беспокойный сон, ночные кошмары. Спертый воздух переполненный молельни, солнце, резавшее глаза, долгое стояние на ногах, неизбежная встреча с Сигне и братьями — от всего этого у него закружилась голова. На какое-то мгновение ему показалось, что он вот-вот потеряет сознание. Когда он после службы встретился с родными у дверей церкви, ему было уже не на шутку плохо. Сигне сразу это заметила и спросила, что с ним. И вдруг все поплыло перед глазами Пера, он успел добежать до каморки привратника и упал там в обморок.
Когда он очнулся, братья отвели его к экипажу. Он слышал, как Сигне приказала кучеру ехать на Кунгевей, на их квартиру, и даже не пытался возражать. Он смертельно устал, силы покинули его, и ему казалось, что он умирает. Как только его уложили в постель, он тотчас уснул.
Проснувшись через несколько часов, он увидел себя в полутемной низкой комнате с одним окном, на котором была спущена гардина. Он не сразу сообразил, где находится, и испуганно оглядывался по сторонам. Вот принадлежавший матери секретер красного дерева с круглыми белыми пластинками вокруг каждой замочной скважины; пластинки таращатся, словно удивленные глаза. Вот плетеный стул, что стоял когда-то у постели умирающего отца. И пуфик с ручной вышивкой на сиденье, мать еще так берегла его. А на полочке под зеркалом лежит, как и в прежние годы, большая африканская раковина, изнутри она ярко-красного цвета, и в ней звучит угрюмый напев моря… таинственный, призрачный шум… Как часто, еще ребенком, подносил он эту раковину к уху и с удивлением внимал странным звукам. Быть может, тогда впервые и зародилась в нем мечта о сказочном великолепии далеких, неведомых стран.
Пер глубоко вздохнул с чувством радостного облегчения. Вот он и дома. Окончилась безумная погоня за несбыточными снами. Он вернулся в царство действительности, и под ногами у него снова твердая почва родины.
Дверь в соседнюю комнату была чуть приоткрыта, оттуда доносились тихие голоса. Они звучали так уютно, так по-домашнему. В столовой пробили старые часы… рассыпались серебром три ясных, чистых удара. Какие знакомые звуки! Словно из длинного свитка времен выплыла и развернулась ничем не замутненная картина детства. Он вспомнил, как еще совсем крошкой благоговейно прислушивался к бою часов; они добросовестно провожали ударом каждый час, канувший в вечность, — так звонит церковный колокол над телом усопшего. Потом, став постарше, он раздумывал: а не возносится ли в небо вместе с этими серебряными, ясными звуками душа истекшего часа? Даже много-много спустя, когда мысли его из заоблачных высот вернулись на землю, размеренный, предостерегающий бой часов всегда настраивал его на торжественный лад. Чувство молитвенного преклонения перед уходящим в небытие временем не покидало его. И сейчас, уже взрослым человеком, он воспринимал бой часов как благую весть самой вечности.
Вдруг он вспомнил про письмо, которое оставила ему мать. Целое лето оно не выходило у него из головы и наполняло душу тревожным ожиданием. Он не мог решиться написать, чтобы ему выслали письмо, и в то же время страстно желал прочесть его. Теперь, чувствуя себя достаточно подготовленным, он решил попросить письмо у сестры. Он понял, что боязнь услышать осуждение матери тайно руководила им в его борьбе с силами тьмы. Из гроба мать протянула ему руку помощи, помогла сделать первый, самый трудный шаг на пути к спасению, шаг, стоивший ему таких огромных усилий.
Он хотел было позвать Сигне, но у входных дверей раздался звонок, и вслед за звонком из соседней комнаты донесся голос Эберхарда.
Некоторое время Пер лежал молча и слушал этот голос, так странно напоминавший голос отца. Разговаривая, брат расхаживал по комнате, тоже совсем как отец, так что даже страшно становилось. Еще он услышал, как Сигне рассказывает ему о случившемся, и хотя оба говорили вполголоса, Пер все же сумел кое-что разобрать. Эберхард сердито отчитывал сестру за ее поступок. «Лучше бы отправить его в больницу, — сказал он. — Когда не знаешь толком, чем человек болен, больница — это самый разумный выход. Может, у него вообще какая-нибудь заразная болезнь. А уж коли привезли сюда, надо было немедленно послать за врачом».
Пер повернулся на другой бок: ему расхотелось слушать дальше. Чувство протеста начало пересиливать его кроткое и умиротворенное настроение. Но потом он сказал себе, что брат прав. Как бы то ни было, примирение надо довести до конца. Сейчас — или никогда. Настало время на деле доказать искренность своего покаяния.
— Эберхард! — позвал он.
Брат вошел к нему. Следом за ним вошла Сигне и остановилась в ногах кровати.
— Я думаю, вам нечего тревожиться, — поспешно сказал Пер, делая над собой усилие. — Ничего страшного у меня нет. Просто я переутомился в последнее время. Теперь мне уже опять хорошо.
— Да ты совсем не плохо выглядишь, — сказал Эберхард дружелюбным и участливым тоном и первый протянул ему руку. — Но обморок — вещь серьезная, что ни говори.
— Нет, нет, просто мне было не по себе. Больше ничего. Да еще как на грех солнце светило прямо в глаза, а я этого не выношу. Теперь я себя опять превосходно чувствую.
— А я все-таки продолжаю настаивать, чтобы вызвали врача. Если врач дома, он может быть здесь через несколько минут.
— Ну, раз это вас успокоит, я, разумеется, согласен. Но я уже говорил, что мое недомогание ничего общего с настоящей болезнью не имеет. Во всем виновато солнце… или, может быть, спертый воздух.
— Ну, не будем сами отыскивать причину, — уклончиво сказал Эберхард. — Даже если ты прав, врач скорее разберется в этом, чем мы с тобой.
Несмотря на все благие намерения, Пер исподтишка покосился на брата, ожидая увидеть на его лице самое для себя страшное — выражение торжества. Но Эберхард стоял спиной к свету, да вдобавок его лицо с сильно развитой нижней челюстью, еще больше, чем лицо Сигне, напоминало застывшую маску. Вся жизнь сосредоточилась в одних глазах.
Пер повторил, что их воля для него закон и что он просит лишь об одном: послать за профессором Ларсеном, к которому он уже обращался при подобных обстоятельствах.
Но оба они, и Эберхард и Сигне, встретили его просьбу в штыки. Они переглянулись, и Эберхард сказал:
— У нас есть домашний врач. Он, правда, не профессор, но мы ему вполне доверяем.
— Он и маму лечил, — вставила Сигне.
Пер не сразу их понял. Он повторил, что ему будет очень неприятно, если его начнет осматривать другой врач, а не тот, который уже видел его и поэтому скорее может судить о его состоянии.
Но Эберхард был неумолим.
— Твои отношения с профессором Ларсеном — это твое дело. Но нам просто неудобно обойти нашего врача, тем более что у нас нет никаких причин не доверять ему. Кстати, твой профессор в эти часы, наверно, и не принимает никого, кроме своих постоянных пациентов. Так что, хотя бы поэтому…
Тут только Пер сообразил, что они решили, будто он некстати напустил на себя важность и хочет похвастаться своими светскими замашками. Это подозрение обидело его. Он сказал, что если им так уж неприятно видеть профессора Ларсена, то он просто встанет и уедет.