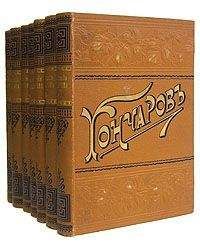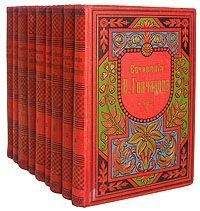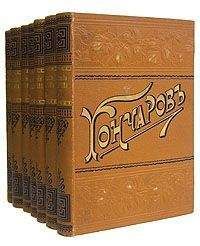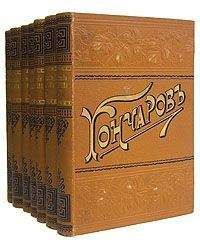Иван Гончаров - Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том 6.
– Извини, не как отцы и деды, – сказал он, вдруг перевернувшись лицом к Штольцу и опершись на локоть, – я при меняюсь к веку…»; «- Далась обломовщина: ну что ж, пусть обломовщина, если она удовлетворяет идеалу счастья, покоя…» (наст. изд., т. 5, с. 201, 203). Сам герой и объясняет далее, почему ему стало обидно: «Обло… мов… щина! – произнес он, – ух какое слово! И отчего мне обидно оно: оттого, кажется, что оно только мне одному к лицу, – дураком назвать легче: дураков много…» (там же, с. 214, сноска 1). В окончательном тексте смех и хлопанье в ладоши устраняются: ключевое слово произносится серьезно и взвешенно, изменяя и поэтическое, с некоторым юмористическим оттенком течение дружеской беседы. Не сохранился и мотив «обиды», слишком персонализировавший символичное слово-понятие.
Сноски к стр. 217
1 В черновом автографе чувства Обломова обрисованы еще резче, рельефнее: «Обломов…щина… обломовщина… – шептал потом, -вот оно что! Какое слово: точно клеймо, жжется… Прочь, прочь, обломовщина!»; «„Теперь или никогда!” – являлись грозные слова ‹…›. Утром он читал их на своих брошенных в угол книгах, на пыльных стенах и занавесках, на изношенном халате, на тупом лице Захара. Ночью они огнем горели в его воображении, напоминая о пройденной половине жизни и угрожая перспективой тяжелого, пустого существования, без горя и без радости, без дела и без отрадного отдыха, без цели, без желаний». И зачеркнутое: «Прежде он бился, стараясь определить эту пройденную половину, и не знал имени ей: теперь Штольц назвал ее: „Обломовщина” – таким же длинным неуклюжим словом, как и сама эта жизнь» (наст. изд., т. 5, с. 215 и сноска 5).
Сноски к стр. 219
1 Всероссийский и всесловный характер обломовщины усиленно подчеркивается критиком, обнаруживающим ее «во всех видах» и «под всеми масками»: «Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности, – я уже с первых слов его знаю, что это Обломов.
Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, он – Обломов.
Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности тихого шага и т. п., я не сомневаюсь, что он Обломов.
Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что наконец сделано то, чего мы давно надеялись и желали, – я думаю, что это всё пишут из Обломовки.
Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с неуменьшающимся жаром рассказывающих всё те же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода, – я невольно чувствую, что я перенесен в старую Обломовку…» («Обломов» в критике. С. 62).
Сноски к стр. 220
1 Е. А. Ляцкий несколько драматизировал ситуацию, но в общем верно описал волнения Гончарова, с нетерпением и страхом ждавшего критических откликов на роман в прессе, всячески торопившего Анненкова и других литературных знаменитостей: «…статья Добролюбова появилась на пятый месяц после начала печатания „Обломова”, и нетрудно угадать ‹…› какое нравственное испытание пришлось пережить самолюбивому художнику, болезненно прислушивавшемуся к каждому мнению, из суммы которых, уже избалованный приемом „Обыкновенной истории”, он мог выводить заключения лишь о сомнительном, спорном успехе» (Ляцкий 1920. С. 131). Добролюбов, не дожидаясь окончания публикации, предварительно очень высоко отозвался о романе в рецензии на «Воспитанницу» А. Н. Островского в февральской книжке «Современника» за 1859 г.: «В „Отечественных записках” начался роман г-на Гончарова „Обломов”, которого так давно и нетерпеливо ожидала русская публика. Роман этот состоит из трех частей, и все, читавшие его вполне, соглашаются, что замечательные достоинства этого первоклассного произведения еще увеличиваются в следующих частях, далеко превосходящих первую – и в развитии характеров, и в художественной отделке подробностей. Когда он напечатан будет весь, мы надеемся поговорить о нем подробнее» (Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1962. Т. IV. С. 213).
Сноски к стр. 223
1 Гончаров говорил о Добролюбове (и, разумеется, о Белинском) с неизменным пиететом. Так обстоит дело и в статье «Лучше поздно, чем никогда», где он отнес Белинского и Добролюбова к «тонким критическим истолкователям», помогающим художникам («бессознательным», тем, у кого «при избытке фантазии и при относительно меньшем против таланта уме образ поглощает в себе значение, идею») увидеть «смысл» инстинктивно созданной ими художественной картины. В письме к П. Г. Ганзену от 30 августа 1878 г. Гончаров тепло вспоминал статью Добролюбова: «Об „Обломове”, кроме Добролюбова, тоже никто не отозвался в печати с ласковым участием».
Сноски к стр. 227
1 Интересно истолковывает в применении к Гончарову слово «апатия» Е. А. Ляцкий: «По отношению к человеку, неустанно работавшему в тиши кабинета над созданием ряда произведений, техника которых, по его собственным словам, стоила ему большого труда, это слово должно иметь особый, духовный смысл. Это менее всего внутреннее разочарование в том, во что верилось в юности, в идеалах, надеждах, наконец, в любви и дружбе. Наоборот, мощью здорового идеализма звучат последние произведения Гончарова; ласковый юмор их достигает местами удивительной свежести, изящества и даже глубины. Это не бессилие человека, который вышел на борьбу и увидел, что руки у него связаны. Борьба не была в натуре Гончарова, и менее всего он подходил бы под понятие борца во имя чего бы то ни было. Правильнее всего признать, кажется, что гончаровская апатия, если не принимать в расчет некоторой доли скептицизма, свойственного всем пожилым людям, видевшим свет, сводилась преимущественно к внешним проявлениям, к внешнему виду или, вернее, к тому впечатлению, которое производил Гончаров на людей своей неподвижной, по виду вялой, по разговору равнодушной фигурой. В голове и в сердце творилась невидимая глазу сложная работа, из которой слагалось творчество образов и картин; на эту работу и уходила значительная доля энергии и органической самостоятельности художника» (Ляцкий 1920. С. 191-192). Противоположную точку зрения в самом крайнем варианте высказал Ю. И. Айхенвальд, полагавший, что Гончаров «в свои романы свою натуру перенес всецело и нисколько не отрешался от себя, когда живописал других»: «У него и в помине нет той строгой объективности, которая подавляет в художнике его сочувствия и неприязни и без всякого заметного посредничества ставит нас лицом к лицу с жизнью и людьми. ‹…› Гончаров необычайно субъективен в произведениях своего пера…» (Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1994. С. 208).
Сноски к стр. 230
1 А. С. Хомяков в речи, произнесенной 2 февраля 1860 г. в Обществе любителей российской словесности, сказал: «…„Обломов” внес даже в наш разговорный язык новое выразительное слово „обломовщина” и тем самым доказал свое художественное достоинство» (Хомяков А. С. О старом и новом: Статьи и очерки. М., 1988. С. 328-329).
Сноски к стр. 231
1 Григорьев А. Письма / Изд. подгот. Р. Виттакер, Б. Егоров. М., 1999. С. 222 («Лит. памятники»). Цитируемый фрагмент датирован Григорьевым 29 сентября.
Сноски к стр. 234
1 Суждение Ахшарумова о свойственной Штольцу «обломовщине» запомнится и будет неоднократно повторено и развито как критиками, так и литературоведами (ср. рассуждения В. Сквозникова в статье «„Золотое” сердце Обломова» (Leben, Werk und Wirkung. S. 281)).
Сноски к стр. 235
1 Не разделял выводов Добролюбова и И. Ф. Анненский, которому были вообще чужды принципы публицистической критики «по поводу»: «Тридцать лет тому назад критик видел в Обломове открыто и беспощадно поставленный вопрос о русской косности и пассивности. Добролюбов смотрел с высоты, и для него уничтожалась разница не только между Обломовым и Тентетниковым, но и между Обломовым и Онегиным; для него Обломов был разоблаченный Печорин или Бельтов, Рудин, низведенный с пьедестала». Но в гораздо большей степени поразило Анненского утилитарно-примитивное и вульгарное осмысление романа в статье Протопопова; он счел необходимым заметить: «Да простит мне тень Добролюбова, что я поставил рядом с упоминанием о нем отзыв М. А. Протопопова»«Обломов» в критике. С. 226). В. В. Розанов в статье «Три момента в развитии русской критики» писал о разрыве между литературой и критикой, начавшемся еще в 1860-е гг. и усилившемся позднее в работах ограниченных последователей Добролюбова: «Ряд последующих критиков, видя только внешние черты влияния Добролюбова и не понимая, как тесно они были связаны с его особым душевным складом, – хотя и не имели в себе ничего подобного, однако хотели во всем следовать ему: произошло явление в высшей степени слабое и незначащее, как не имеющее под собой никакого другого основания, кроме подражательности. Тон силы и влияния, замысел руководить обществом и направлять течение жизни – все это сохранено было ими; но в формах этого тона, в пределах этого замысла произносились ими бессильные, незначащие слова: они были похожи на певцов, широко раскрывающих рот, из которого выходят едва слышные звуки» (Розанов В. В. Соч. М., 1990. С. 158).