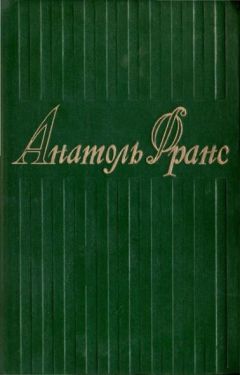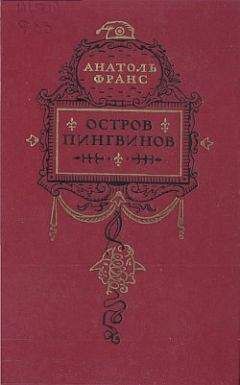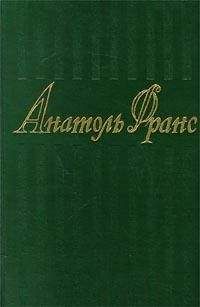Анатоль Франс - 6. Остров Пингвинов. Рассказы Жака Турнеброша. Семь жен Синей Бороды. Боги жаждут
Бротто никогда не трогала слава оружия. Он нисколько не радовался победам Республики, которые еще раньше предвидел. Ему не нравился политический строй, укреплявшийся с каждой новой победой. Он был недоволен. Недовольными становились и по менее веским причинам.
Однажды утром заключенным сообщили, что комиссары Комитета общественной безопасности произведут у них обыск, причем будут отобраны ассигнации, золотые и серебряные вещи, ножи, ножницы; что такие обыски уже были произведены в Люксембурге и что там забрали письма, бумаги, книги.
Каждый постарался найти укромное местечко и спрятать туда то, что ему было дороже всего. Отец Лонгмар охапками снес свою защитительную речь к водосточной трубе и засунул ее в желоб, Бротто зарыл своего Лукреция в пепел камина.
Когда комиссары с трехцветными лентами на шее явились для обыска, они нашли лишь то, что заключенные сочли нужным оставить для них. После их ухода отец Лонгмар кинулся к желобу и подобрал остатки защитительной речи, сильно пострадавшей от ветра и воды. Бротто вытащил из камина своего Лукреция, черного от сажи.
«Будем наслаждаться настоящим часом, — решил он, — так как по некоторым признакам я вижу, что времени в нашем распоряжении уже очень мало».
В теплую прериальскую ночь, когда над тюремным двором в побледневшем небе сверкал серебром двурогий месяц, старый откупщик сидел на ступеньке каменной лестницы, перечитывая, по обыкновению, Лукреция, как вдруг его окликнул женский голос, очаровательный голос, показавшийся ему совсем незнакомым, Бротто спустился во двор и увидал за решеткой женскую фигуру: он не узнал ее, так же как и голоса, но по изящным и неясным очертаниям она напоминала ему всех женщин, которых он любил. Лунный свет заливал ее лазурью и серебром. Вдруг Бротто узнал миловидную актрису с улицы Фейдо, Розу Тевенен.
— Вы, дитя мое? Что за жестокая радость — видеть вас здесь! Давно ли и почему вы тут?
— Со вчерашнего дня.
Она прибавила шепотом:
— На меня донесли как на роялистку. Меня обвиняют в том, что я принимала участие в заговоре, имевшем целью освободить королеву. Зная, что вы здесь, я сразу постаралась отыскать вас. Выслушайте меня, мой друг… вы ведь позволите мне называть вас так? У меня есть знакомства среди людей с положением… Я пользуюсь, мне это известно, симпатиями и кое у кого из Комитета общественного спасения. Я поручу друзьям похлопотать: они освободят меня, а я в свою очередь освобожу вас.
Но Бротто голосом, в котором звучала настойчивая мольба, стал отговаривать ее:
— Во имя всего, что вам дорого, дитя мое, не предпринимайте ничего! Не пишите никому, не ходатайствуйте ни перед кем! Заклинаю вас, ни о чем никого не просите, пускай о вас забудут совсем.
Она, по-видимому, не сознавала важности его слов; поэтому Бротто принялся умолять ее еще настойчивее:
— Храните молчание, Роза, пускай вас забудут: в этом — спасение. Все, что попытались бы сделать ваши друзья, только ускорило бы вашу гибель. Старайтесь выиграть время. Теперь уже остается ждать немного, надеюсь, совсем немного… Но, главное, откажитесь от мысли разжалобить судей, присяжных, какого-нибудь Гамлена. Это не люди, это — неодушевленные предметы, а с неодушевленными предметами бесцельно вступать в объяснения. Пускай о вас забудут. Если вы последуете моему совету, друг мой, я умру, счастливый тем, что спас вам жизнь.
— Я послушаюсь вас, — ответила она, — Не говорите о смерти.
Он пожал плечами.
— Моя жизнь кончена, дитя мое. А вы — живите и будьте счастливы.
Она взяла его руки и прижала их к груди.
— Выслушайте меня, друг мой… Я видела вас только в течение одного дня, и все-таки вы мне не безразличны. И если то, что я вам скажу, может хоть немного привязать вас к жизни — знайте: я буду для вас всем… чем вы пожелаете.
И, прильнув к решетке, они поцеловались.
XX
Во время одного из продолжительных заседаний Трибунала Эварист, сидя на судейской скамье в душном воздухе, размышляет, закрыв глаза:
«Злодеи, заставившие Марата прятаться по темным углам, превратили его в ночную птицу, птицу Минервы, чье око настигало заговорщиков и во мраке. Теперь холодный и спокойный взор голубых глаз видит насквозь врагов Республики и разоблачает изменников с проницательностью, которой не знал даже Друг Народа, уснувший навеки в саду Кордельеров[428]. Новый спаситель, не менее ревностный, но еще более прозорливый, чем первый, замечает то, чего никто не замечает, и его поднятый перст порождает вокруг ужас. Он различает мельчайшие неуловимые оттенки, отделяющие зло от добра, порок от добродетели; не будь его, их бы смешивали в ущерб отечеству и свободе; он проводит тонкую, прямую черту, вне которой направо и налево только заблуждение, преступление и злодейство. Неподкупный[429] разъясняет, как служат внешнему врагу те, которые впадают в крайности или обнаруживают чрезмерную слабость; те, кто преследует религиозные культы во имя разума, и те, кто во имя религии оказывает сопротивление законам Республики. Не в меньшей степени, чем негодяи, убившие Лепелетье и Марата, служат внешнему врагу те, кто воздает им божеские почести с целью набросить тень на их память. Агентом заграницы является всякий, кто отвергает идеи порядка, благоразумия и своевременных мероприятий; агентом заграницы является и тот, кто бросает вызов морали, оскорбляет добродетель и в своей чудовищной разнузданности отрицает бога. Фанатики-священники заслуживают смерти; но есть и контрреволюционный способ борьбы с фанатизмом; в иных случаях отречение бывает преступным. Человек умеренный губит Республику, неистовый тоже губит ее.
О, страшные обязанности судьи, указанные мудрейшим из людей! Уже надо поражать не одних только аристократов, федералистов, злодеев-орлеанистов, этих явных врагов отечества. Заговорщик, агент заграницы — Протей, принимающий всевозможные личины. Он прикидывается патриотом, революционером, врагом королей; он уверяет, будто его сердце бьется для одной лишь свободы: он возвышает голос и повергает в трепет врагов Республики: это — Дантон; его неистовые выступления плохо прикрывают его гнусную умеренность, и в конце концов всем становится ясной его продажность. Заговорщик, агент заграницы, — это тот красноречивый заика, который первым прикрепил к своей шляпе революционную кокарду; это тот памфлетист, который с жестокой иронией примерного гражданина называл себя „прокурором фонаря“; это — Камиль Демулен[430]. Он выдал себя, защищая изменников-генералов и настаивая на совершенно неуместном милосердии при назначении кары. Это — Филиппо[431], это — Эро[432], это — презренный Лакруа[433]. Заговорщик, агент заграницы, — это отец Дюшен[434], унижающий свободу своей подлой демагогией, Дюшен, чья отвратительная клевета внушила многим сочувствие даже к Антуанетте. Это Шометт[435]; правда, стоя во главе Коммуны, он выказывал себя человеком кротким, доступным, умеренным, благожелательным и добродетельным, но он был атеистом! Заговорщики, агенты заграницы, — это вое санкюлоты в красных колпаках, карманьолах, в деревянных башмаках, старавшиеся во что бы то ни стало перещеголять якобинцев патриотизмом. Заговорщик, агент заграницы, — это Анахарсис Клоотс[436], защитник рода человеческого, осужденный на смерть монархиями всего мира; но от него можно было ожидать всего: ведь он был пруссак.
Теперь все эти злодеи, неистовые и умеренные, все эти изменники, Дантон, Демулен, Эбер, Шометт, погибли на плахе. Республика спасена: согласный хор похвал несется из всех комитетов, из всех народных собраний навстречу Максимилиану и Горе[437]. Добрые граждане восклицают: „Достойные представители свободного народа, тщетно сыны Титанов подняли высокомерную главу: благодетельная Гора, покровитель Синай[438], из твоих кипящих недр изошла спасительная молния…“
В этом хоре известная часть похвал приходится и на долю Трибунала. Как приятно быть добродетельным и как любезна сердцу неподкупного судьи признательность общества!
Но вместе с тем может ли подлинный патриот не изумляться и не испытывать тревоги? Как? Значит, для того чтобы предать интересы народа, было недостаточно Мирабо, Лафайета, Байи, Петиона, Бриссо? Понадобились, оказывается, еще и те, кто изобличал этих изменников. Как? Все эти люди, совершившие Революцию, сделали это только для того, чтобы ее погубить? Эти великие вдохновители великих идей подготовляли, вкупе с Питтом и Кобургом, воцарение династии Орлеанов или опеку над Людовиком XVII? Как? Дантон это был Монк[439]? Как? Шометт и эбертисты, еще более вероломные, чем федералисты, которых они отправили на гильотину, замышляли гибель государства? Но среди тех, кто толкает в объятия смерти вероломных Дантонов и вероломных Шометтов, не найдут ли завтра голубые глаза Робеспьера еще более вероломных? Где же оборвется проницательность Неподкупного и омерзительная цепь предающих друг друга предателей?»