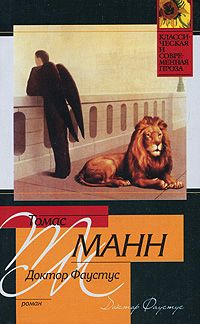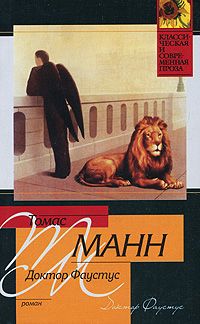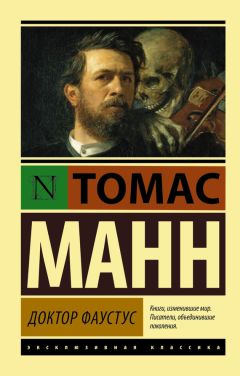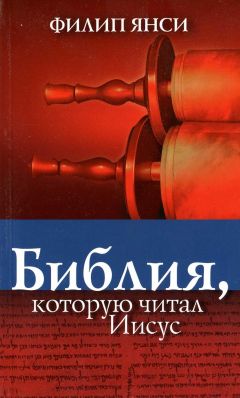Томас Манн - Доктор Фаустус
Здесь применены все выразительные средства той эмансипационной эпохи. Об одном из них, об эхо, я уже упоминал как об особенно соответствующем этому вариационному, в известном смысле неподвижному творению, в котором всякое видоизменение формы, по сути, лишь эхо предшествующего. Нет здесь недостатка и в отзвукоподобных продолжениях, в более высоких повторениях заключительной фразы данной темы. Тихо-тихо вспомянуты интонации Орфеева плача, что роднят Орфея и Фауста, ибо оба они — заклинатели царства теней, в эпизоде, где Фауст вызывает Елену, которой предстоит родить ему сына. Сотнями намеков на тон и дух мадригалов пронизана эта вещь, более того, целая ее часть — беседа с друзьями за ужином в последнюю ночь — написана в классической форме мадригала.
Но применены здесь, как бы резюмированы, и все другие, все мыслимые выразительные средства музыки вообще: и, разумеется, не в качестве механического подражания или нарочитого возврата к старому, нет, в кантате Фауста имеет место сознательное обращение ко всем выразительным средствам, когда-либо применявшимся в музыке, которые здесь, словно под воздействием некоего алхимического процесса дистилляции, уплотняются, кристаллизуются в основные типы музыкальной передачи чувства. При словах: «Ах, Фаусте, ты дурная, отчаянная голова, ах, ах, все-то ты полагаешься на предерзостный разум, все самовольничаешь», — слышится глубокий вздох, целое сплетение пауз, правда, использованное как ритмическое средство, мелодическая хроматика, как всеобщее боязливое молчание перед началом фразы, повторы, как в «Lasciatemi», растягивание слогов, нисходящие интервалы, постепенно идущая на спад декламация, не говоря уж о грандиозных контрастных воздействиях, например трагическое вступление хора, a capella и с потрясающей силой, вслед за которым следует оркестровая партия пышно балетной музыки и нисхождение в ад Фаустуса в темпе невероятно ритмически разнообразного галопа, а после оргии инфернального веселья — надрывающий душу взрыв горести, плача.
Эта дикая идея — умыканье в ад, переданное через танцевальное furioso, пожалуй более всего остального по духу близка к «Apocalypsis cum figuris», — да еще, может быть, ужасное, я не побоюсь даже сказать — циничное хоровое скерцо, когда «злой дух досаждает опечаленному Фаусту странными, поносными шутками и поговорками» и этим страшным:
А потому скрывай, таи
От них страдания свои!
Нет меры горести твоей,
И что ни день, тоска сильней.
В остальном позднее творение Леверкюна имеет мало общего с тем, которое было написано им в тридцать лет. Оно чище по стилю, тон его в целом более мрачен и чужд пародийности, оно не консервативнее в своей обращенности к прошлому, но нежнее, мелодичнее — скорее контрапункт, чем полифония. Этим я хочу сказать, что вторые голоса при всей своей самостоятельности больше ориентируются на первый голос, который часто описывает долгие мелодические круги, зерно же его, зерно, из которого все развивается, как раз и составляет двенадцатизвучное: «Гибну как дурной, но добрый христианин».
Забегая вперед, я уже упоминал, что мелодикой и гармонией в «Фаустусе» нередко также управляет впервые мною обнаруженный буквенный символ, то есть пресловутое heaees, Hetaera esmeralda, возникающее едва ли не повсюду, где речь идет о договоре, скрепленном кровью.
Кантату «Фаустус» прежде всего отличают от «Апокалипсиса» большие оркестровые интермедии, которые иногда лишь в общих чертах подчеркивают отдельные смысловые моменты кантаты, как бы говоря «вот так оно было», иногда же — к примеру, в леденящей кровь балетной музыке — становятся ингредиентом действия. Инструментована адская пляска только духовыми и постоянно сопровождающей группой: двумя арфами, клавесином, роялем, челестой, глокеншпилем и ударными, которая, то исчезая, то вновь настойчиво возникая, пронизывает все произведение в качестве своеобразного continuo. Отдельные хоровые эпизоды знают этот аккомпанемент. В иных ему приданы духовые, в других смычковые, некоторые же сопровождает полный оркестр. Финал — чисто оркестровый: симфоническое adagio, в которое постепенно переходит хор, мощно вступивший после адского галопа, — это как бы вспять обращенный путь песни к радости, конгениальный обратный переход симфонии в певческое ликование, это — отнятие…
Бедный великий друг мой! Как часто, разбираясь в его наследии, читая это закатное его творение, пророчески возвещавшее закат и гибель вокруг нас, вспоминал я о горьких словах, сказанных им, когда умирал ребенок: что не должно быть доброго, не должно быть радости, надежды, что всего этого не должно быть, что это будет отнято, что он это отнимет.
«Ах, не должно этого быть» — почти как музыкальное указание и требование управляют эти слова всеми инструментальными и хоровыми партиями «Плача доктора Фаустуса», более того, они слышатся в любом такте, в любой ноте этой «Песни к печали». У меня нет ни капли сомнения в том, что кантата была задумана и записана как антипод бетховенской Девятой симфонии, антипод в самом трагическом значении этого слова. Но дело здесь не только в том, что формально все оборачивается отрицанием, переходит в отрицание: здесь наличествует негативность религии, чем я отнюдь не хочу сказать: ее отрицание. Произведение, трактующее об искусителе, об отпадении, о проклятии, может ли оно не быть религиозным произведением! Я имею в виду преобразование, суровое и гордое переобращение религиозного смысла, которое усматриваю, например, в «дружеской просьбе» доктора Фаустуса к свидетелям его последнего часа: пусть ложатся, пусть мирно спят и ни о чем не тревожатся. Вряд ли возможно, в рамках кантаты, не понять, что эта просьба есть сознательный и преднамеренный антитезис к гефсиманскому «бодрствуйте со мной». Ужин умирающего с друзьями также носит бесспорно ритуальный характер и дан здесь как вторая тайная вечеря. Но с этим связано переобращение идеи искуса, в такой степени, что Фауст отвергает как искус мысль о спасении не из одной формальной верности договору и не потому, что уже «слишком поздно», но потому, что он всей душой презирает позитивность того мира, для которого может быть спасен, лживость его благочестия. Все это делается еще яснее, преподносится с еще большей силой в сцене с соседом — добрым старым доктором, который зовет к себе Фауста и предпринимает благочестивую попытку обратить его; в кантате он очевидно и нарочито изображен, как искуситель. Сцена эта неизбежно вызывает в памяти искушение Христа сатаной, его «изыди!» рядом с гордым, отчаянным «нет!», брошенным в лицо христианскому ханжеству.
Но надо вспомнить еще и о последнем, доподлинно последнем переосмыслении в конце этой кантаты, этого бескрайнего плача; оно будоражит наши чувства тихой своей речью, которая превыше разума, своей говорящей невыговоренностью, присущей одной только музыке. Я имею в виду финальную оркестровую часть, в которой растворяется хор и которая звучит как плач господа бога над гибелью своего мира, как горестное восклицание творца: «Я этого не хотел!» Здесь, думается мне, под конец достигнуты предельные акценты печали, последнее отчаяние отождествилось со своим выражением, и… я не хочу этого говорить, боясь оскорбить несообщительную замкнутость, неизлечимую боль творения Леверкюна разговором о том, что до последней своей ноты оно несет с собой другое утешение, не то, что заложено в самом выражении, в его громогласности, — иными словами, в том, что человеку дано «поведать, что он страждет». Нет, суровая музыкальная поэма до конца не допускает такого утешения или просветления! Но, с другой стороны, разве же парадоксу искусства (когда из тотальной конструктивности родится выражение — выражение как жалоба) не соответствует религиозный парадокс (когда из глубочайшего нечестия, пусть только как едва слышный вопрос, пробивается росток надежды)? Это уже надежда по ту сторону безнадежности, трансценденция отчаяния, не предательство надежды, а чудо, которое превыше веры. Вы только послушайте финал, послушайте его вместе со мной! Одна за другой смолкают группы инструментов, остается лишь то, во что излилась кантата, — высокое «соль» виолончели, последнее слово, последний отлетающий звук медленно меркнет в pianissimo ферматы. И все: только ночь и молчание. Но звенящая нота, что повисла среди молчания, уже исчезнувшая, которой внемлет еще только душа, нота, некогда бывшая отголоском печали, изменила свой смысл и сияет, как светоч в ночи.
XLVII
«Бодрствуйте со мной!» — пусть Адриан этот возглас богочеловеческой тоски преобразил в своем творении в гордое слово одинокой мужественной души, вложив в уста Фаустуса слова: «Спите мирно и ни о чем не тревожьтесь». Глубоко человеческим этот возглас остался и здесь: в нем звучит благотворный призыв не к состраданию, а хотя бы к доброму соприсутствию, просьба: «Не покидайте меня! Останьтесь со мною в мой последний час!»