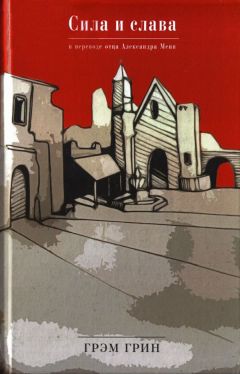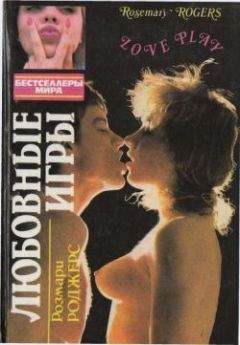Грэм Грин - Избранное
— И проделали весь этот путь в имение?
— Все равно подошло время для осмотра сеньоры Фортнум. Зачем бы я стал вам врать?
— Мне надо учитывать все возможности, доктор. Бывают ведь преступления и на почве страсти.
— Страсти? — улыбнулся доктор. — Я же англичанин.
— Да, это маловероятно, знаю. И в случае сеньоры Фортнум… вряд ли такой человек, как вы, при ваших возможностях, сочтет необходимым… Однако мне попадались преступления на почве страсти даже в публичном доме.
— Чарли Фортнум мой друг.
— Ну, друг… В таких случаях именно друзей и предают… Не правда ли? — Полковник Перес положил руку доктору на плечо. — Вы меня простите. Я достаточно хорошо с вами знаком, чтобы разрешить себе, когда мне что-то непонятно, маленько поразмыслить. Вот как сейчас. Я слыхал, что у вас с сеньорой Фортнум весьма близкие отношения. И все же, вы правы, не думаю, чтобы вам так уж понадобилось избавиться от ее мужа. Однако я все же удивляюсь, зачем вам было лгать.
Он влез в машину. Кобура его револьвера скрипнула, когда он опускался на сиденье. Он откинулся, проверяя, хорошо ли лежит авокадо, чтобы его не побило от толчков.
Доктор Пларр сказал:
— Я просто не подумал, полковник, когда вам это сказал. Полиции лжешь почти машинально. Но я не подозревал, что вы так хорошо обо мне осведомлены.
— Город-то маленький, — сказал Перес. — Когда спишь с замужней женщиной, всегда спокойней предполагать, что все об этом знают.
Доктор Пларр проводил взглядом машину, а потом нехотя вернулся в дом. Тайна, думал он, составляет львиную долю привлекательности в любовной связи. В откровенной связи всегда есть что-то абсурдное.
Клара сидела там же, где он ее оставил. Он подумал: первый раз мы вдвоем и ей не надо спешить на встречу в консульство или бояться, что Чарли ненароком вернется с фермы.
Она спросила:
— Ты думаешь, он уже умер?
— Нет.
— Может, если бы он умер, всем было бы лучше.
— Но не самому Чарли.
— Даже Чарли. Он так боится совсем постареть, — сказала она.
— И все же не думаю, чтобы в данную минуту ему хотелось умереть.
— Ребенок утром так брыкался.
— Да?
— Хочешь, пойдем в спальню?
— Конечно. — Он подождал, чтобы она встала и пошла впереди.
Они никогда не целовались в губы (это было частью воспитания, полученного в публичном доме), и он шел за ней с медленно поднимавшимся возбуждением. Когда любишь по-настоящему, думал он, женщина интересует тебя потому, что она нечто от тебя отличное; но потом мало-помалу она к тебе применяется, перенимает твои привычки, твои идеи, даже твои выражения и становится частью тебя. Какой же интерес она может тогда представлять? Нельзя ведь любить самого себя, нельзя долго жить рядом с самим собой; всякий нуждается в том, чтобы в постели лежал кто-то чужой, а проститутка всегда остается чужой. На ее теле расписывалось так много мужчин, что ты уже никак не можешь там разобрать свою подпись.
Когда они затихли и ее голова опустилась ему на плечо, где ей и было положено мирно, любовно лежать, она сказала фразу, которую он по ошибке принял за слишком часто произносимые слова:
— Эдуардо, это правда? Ты в самом деле…
— Нет, — твердо ответил он.
Он думал, что она ожидает ответа на все тот же банальный вопрос, который постоянно вымогала у него мать после того, как они покинули отца. Ответа, которого рано или поздно добивалась каждая из его любовниц: «Ты в самом деле меня любишь, Эдуардо?» Одно из достоинств публичного дома — слово «любовь» там редко или вообще никогда не произносится. Он повторил:
— Нет.
— А как ты можешь быть в этом уверен? — спросила она. — Только что ты так твердо сказал, что он жив, а ведь даже полицейский думает, что его убили.
Доктор Пларр понял, что ошибся, и от облегчения поцеловал ее чуть не в самые губы.
Новость сообщила местная радиостанция, когда они сидели за обедом. Это была их первая совместная трапеза, и оба чувствовали себя неловко. Есть, сидя рядом, казалось доктору Пларру чем-то гораздо более интимным, чем лежать в постели. Им подавала служанка, но после каждого блюда она пропадала где-то в обширных, неубранных помещениях обветшалого дома, куда он еще ни разу не проникал. Сперва она подала им омлет, потом отличный бифштекс (он был много лучше гуляша в Итальянском клубе или жесткого мяса в «Национале»). На столе стояла бутылка чилийского вина из запасов Чарли, гораздо более крепкого, чем кооперативное вино из Мендосы. Доктору было странно, что он так чинно и охотно ест с одной из девушек сеньоры Санчес. Это открывало неожиданную перспективу совсем другой жизни, семейной жизни, равно непривычной и ему и ей. Словно он поплыл в лодке по одному из мелких притоков Параны и вдруг очутился в огромной дельте, такой, как у Амазонки, где теряешь всякую ориентацию. Он почувствовал внезапную нежность к Кларе, которая сделала возможным это странное плавание. Они старательно выбирали слова, ведь им впервые приходилось их выбирать; темой для разговора было исчезновение Чарли Фортнума.
Доктор Пларр заговорил о нем так, будто он и в самом деле наверняка мертв, казалось, что так спокойнее: ведь в противном случае Клара заинтересовалась бы, на чем покоится его оптимизм. И только когда она заговорила о будущем, он изменил этой тактике, чтобы уклониться от опасной темы. Он заверил ее, что Чарли еще, может быть, жив. Вести свое суденышко по этим просторам Амазонки, полным омутов и мелей, оказалось не так легко — даже глагольные времена путались.
— Вполне возможно, что ему удалось выбраться из машины, а потом, если он ослабел, его сильно отнесло течением… Он мог вылезти на сушу далеко от всякого жилья…
— Но почему его машина оказалась в воде? — Она с огорчением добавила: — Ведь это новый «кадиллак». Он хотел продать его на будущей неделе в Буэнос-Айресе.
— Может, у него было какое-то дело в Посадасе. Он же такой человек, который вполне мог…
— Ах нет, я же знаю, что он вовсе не собирался в Посадас. Он ехал ко мне. Он не хотел ездить на эти развалины. И не хотел быть на обеде у губернатора. Он беспокоился обо мне и о ребенке.
— Почему? Не вижу причин. Ты такая крепкая девушка.
— Я иногда делаю вид, что больна, чтобы он тебя позвал. Тебе тогда проще.
— Ну и мерзавка же ты, — сказал он не без восхищения.
— Он взял самые лучшие солнечные очки, те, что ты подарил. Теперь мне их больше не видать. А это мои самые любимые очки. Такие шикарные. Да еще из Мар-дель-Платы.
— Завтра схожу к Груберу и куплю тебе другие, — сказал он.
— Таких там больше нет.
— Он сможет заказать еще одну пару.
— Чарли их у меня уже брал и чуть не разбил.
— Наверное, вид у него в этих очках был довольно нелепый, — сказал доктор Пларр.
— А ему все равно, как он выглядит. В подпитии он вообще почти ничего не видел.
Прошедшее и настоящее времена качались взад-вперед, как стрелка барометра при неустойчивой погоде.
— Он любил тебя, Клара?
Вопрос этот никогда раньше его не занимал. Чарли Фортнум как муж Клары всегда представлял для него только неудобство, когда он чувствовал потребность поскорее получить его жену. Но Чарли Фортнум, лежавший под наркозом на ящике в грязной каморке, превратился в серьезного соперника.
— Он всегда был со мной очень добрым.
Им подали мороженое из авокадо, Пларр снова почувствовал к ней влечение. До вечера у него не было визитов к больным; можно насладиться послеобеденным отдыхом, не прислушиваясь к рокочущему приближению «Гордости Фортнума», и продлить удовольствие почти на весь день. После того, первого, раза у него в квартире она никогда больше не пыталась изображать страсть, и ее равнодушие даже начало слегка его бесить. Когда он бывал один, он иногда мечтал вызвать у нее искренний возглас удовольствия.
— Чарли когда-нибудь говорил, почему он на тебе женился?
— Я же тебе сказала. Из-за денег. Когда он умрет. А теперь он умер.
— Может быть.
— Хочешь еще мороженого? Я позову Марию. Тут есть звонок, но звонит всегда только Чарли.
— Почему?
— Я не привыкла к звонкам. Все эти электрические штуки — я их боюсь.
Ему было забавно видеть, как чинно она сидит за столом, словно настоящая хозяйка. Он вспомнил о своей матери; в прежние времена в поместье, когда няня приводила его к десерту в столовую, там тоже часто подавали мороженое из авокадо. Мать была гораздо красивее Клары, никакого сравнения, но он вспоминал, сколько всякой косметики для своей красоты она тогда покупала: притирания стояли в два ряда вдоль длинного туалетного стола, который тянулся от стены до стены. Иногда он подумывал, что даже в те дни отец у нее занимал второе место после «Герлена» и «Элизабет Арден» [223].