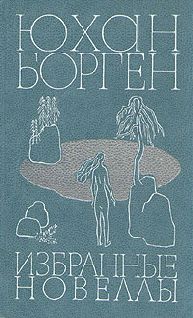Юхан Борген - Теперь ему не уйти
— Подобные героические поступки обычно своего рода жертва...
Но Роберт настороже, он не допустит снижения идеала. Слишком велика была бы утрата.
— Далось тебе это чувство вины! — презрительно говорит он. — Не хочешь ли ты убедить меня, что всякий подвиг — всего лишь своего рода искупление?
А Вилфред и этого не знает. Он знает об этом еще меньше, чем Роберт, хотя он единственный из всех знает, что же именно произошло на границе... Вот собрались вместе давние друзья, бесконечно далекие друг от друга, но, хотя они спорят решительно обо всем, кажется, будто враждебность сникает. Спор постепенно рождает подобие примирения. Как знать, может, они были еще дальше друг от друга в ту пору, когда были близки, тогда, в лесной хижине или в джунглях ресторанной жизни. Так редко человек встречается с человеком, самое большее — раз или два в жизни. А иногда встречи и вовсе не происходит...
Когда-то в Париже — будто сто лет прошло с тех пор — кучка молодых людей сделала своим кредо слова Д. Г. Лоуренса: «Я — это я. Душа моя — темный лес. Диковинные божества выходят из этого леса в световой круг признанного моего «я», — выходят, чтобы вновь скрыться в лесу. У меня достанет мужества смотреть, как они появляются и исчезают. И я никогда не позволю человечности возобладать надо мной...»
Вилфред вспоминает об этом с иронией. Он глядит на Роберта, которого, в сущности, столь мало знает, и думает: пожалуй, все люди склонны принять на веру ту или иную теорию и ловко вычеркивают из нее все, что им не по нраву.
Покладистый Роберт, никогда не вздымавший знамя той или иной идеи, самое большее — размахивавший шелковым носовым платком, с чего это он вдруг так взъярился? Чем-то устраивает его ситуация, не оставляющая ему места для сомнений, — значит, он обрел в ней спасение. Роберт говорит:
— Что за страсть сводить все убеждения к какому-нибудь неблаговидному мотиву!..
Презрительно ухмыльнувшись, Роберт подкрепляет свои слова очередным глотком — и еще одним. Ему приятно сидеть вот так и ссориться с другом, перед которым он в свое время благоговел, когда надменный нигилизм был в моде.
— Человек должен во что-то верить! — говорит он.
Подавшись вперед, Вилфред невольно улыбнулся.
— Да, черт возьми! — воскликнул Роберт, внезапно захмелев от скверной водки. — Эти твои надуманные искания для меня все равно что тьфу... — И он щелкнул пальцами перед носом у своего приятеля прежних лет.
Приличия ради вмешалась Селина. Она медленно потягивала вино и сейчас только ощутила хмель. Но она хотела, чтобы в доме царил мир. Ради этого мира она взяла воинственный тон.
— Не ссорьтесь на рождество! — закричала она. — Вино-то ведь я раздобыла!..
Ей самой хмель тоже ударил в голову. Резко взмахнув рукой, она задела бутылки, которые полетели на пол. В следующий миг все трое уже резво ползали по полу, пытаясь спасти напитки. Это был мир, скрепленный общим старанием подхватить бутылки, не дав пролиться бесценной влаге, и поскорей убрать битое стекло.
Суета на полу соединила их. Что-то в этом напоминало прежние дни. Потом они сидели, отдуваясь, совершенно протрезвев. Роберт проговорил примирительно:
— Просто я не терплю, когда умаляют геройские подвиги вроде того, что произошел у границы!
И тут же от собственных слов кровь снова бросилась ему в голову. Он стал вспоминать другие героические подвиги — и вспомнил. Роберт обожал героические подвиги, и обожал дружеские споры о принципиальных вопросах — он был теперь заклятый враг всяческого оппортунизма. Он унизил себя, согласившись встретить рождество в обществе сомнительного субъекта, который к тому же признает себя таковым. Что ж, зато он с пылом ринется в бой за великое дело.
Роберт вспоминает: ведь он чуть-чуть не позвонил кое-кому насчет Вилфреда. Наверно, так и надо было сделать, посоветоваться, что ли... Именно так ведь и делают. Старая дружба не в счет, если только этот Вилфред и вправду... Он уже мысленно называл его «этот Вилфред». Хорошо так вот сидеть и быть беспощадным. Иные семьи теперь расколоты, супруги — по разные стороны баррикады... В этот миг беспощадной справедливости Роберт ощутил высокий подъем духа:
— Мы выказываем терпимость уже одним тем, что выслушиваем тебя...
Вилфреду нечего возразить. В самом деле...
— У нас нет никаких гарантий, что... — продолжал Роберт. Он все время не заканчивал фразы. Сейчас он угрожал тому, другому, но был слишком хитер, чтобы запутаться в сетях собственных слов. Он говорил «мы» — как бы от имени многих других. Роберт великодушно включил в это «мы» и Селину, хотя за последний год почти потерял ее из виду.
Заботливо, как положено хозяйке, она произнесла:
— Наверно, пора нам что-нибудь поесть.
И они едят — острое, быстро состряпанное блюдо: рыбу, запеченную до неузнаваемости.
Но Роберт возбужден собственными речами.
— Я не позволю насмехаться над «внутренним фронтом»! — заявляет он, прожевывая рыбу. Он весь дрожит от приятного возбуждения. Сейчас бы хорошую драку!
И Вилфред тоже дрожит — от досады, вызванной этим потоком слов, от усталости. Черт побери, зачем только они его разбудили?
Он мог бы пойти к своей матери на Драмменсвей, хоть сегодня мог бы туда пойти. Но, кажется, его визиты ее не радуют. Она догадывается, что у него дурные связи, что он ведет жизнь, которая сама по себе уже измена, что он распространяет вокруг себя яд. Как-то раз он имел неосторожность заметить: «Смешно, что дядя Мартин, прежде всегда недовольный системой правления да и всем прочим в стране, стал теперь таким ревностным демократом!» Ему не следовало бы это говорить, но ведь раньше мать никогда не любила громких фраз. Она ответила: «Теперь другое время». Она никогда не ныла. Но, кажется, не преминула позаботиться кое о каких благах. Что ж, героический голод не для нее...
— Твоя рука... — настойчиво пыталась вернуться к прежнему разговору Селина. Она теперь уже с трудом ворочала языком. Она ведь никогда не любила закусывать после выпивки. Вилфред не стал прятать руку. Он то поднимал ею бокал, то свертывал сигарету. Селина со страхом коснулась этой руки. Он быстро вскинул ее, словно желая ответить на прикосновение легкой лаской, но Селина отшатнулась.
— Черт с ней, с рукой этой! — грубо оборвал ее Роберт. — Мы не о том сейчас толкуем! Про эту руку рассказывают многое: будто эта самая рука...
Он по-прежнему не заканчивал фраз. Он понял вдруг, что может сейчас вывести этого типа на чистую воду и, когда пробьет час, это зачтется ему. Может, тот ничего еще не совершил, может, не все правда, что про него болтают, но рассуждает он как предатель и этого уже довольно, чтобы расправиться с ним. Роберта вдруг осенило: сейчас нельзя выпускать этого типа из дома — так велит ему долг...
Мысленно он исторгал у него немое признание: «Да, я нацист, нацист душою, короче — человек, который презирает людей, и я презираю тебя... Некоторые люди рождены властвовать над другими — рабский дух они обращают в его противоположность и благодаря этому властвуют, и ты знаешь это, и я это знаю, и черт бы взял твою жалкую ложь насчет достоинства человека... И еще потому я нацист, как ты молча именуешь меня, что я поклоняюсь самому дешевому мифу, предпочитая его мутному интеллектуализму... и плевать я хотел на твою демократию и на социализм, все это лишь ярлыки, мы, избранные, одинокие и безжалостные, нуждаемся в поклонении и мы приучаем к нему глупцов, используя их рабский дух...
Так пей же, черт побери, жалкий обманщик, и пусть вино придаст тебе смелости пойти к телефону и позвонить приятелю или знакомому, из тех, кто связан с тобой этой самой вульгарной общностью, а затем — поспеши пристукнуть человека, который не прочь покончить счеты с жизнью, только что ему самому неохота с этим возиться... Так ступай же к телефону, черт бы тебя взял, не забудь понизить голос, а после возвратись с оружием под плащом, как делали убийцы во все времена... Но поспеши, пока похоть и водка не привлекли твой взгляд к прелестям Селины, которая в рассеянности уже сбросила с себя кое-что из одежды. Поторопись же... Потому что я — воплощение всего, что ненавидишь ты, защищая свою дурацкую любовь к человеку. Одним моим существованием я отрицаю твою веру — твой оптимизм вянет, у тебя опускаются руки и иссякают силы... Так будь же героем, братом людей, а главное — правоверным!..»
Они свирепо, с пьяным трагизмом, буравили друг друга взглядами в безмолвном споре, где подсудимый вдруг вырос в обвинителя; но, сознавая всю тщету слов, продолжали хранить враждебное, нескончаемое и загадочное молчание: один — настороженно-выпытывающее, другой — дерзновенно-вызывающее в своей саморазоблачительной ярости; и оба прекрасно понимали друг друга...
«А может, ты и прав, ты вкупе со всеми прочими правоверными! Что может породить презрение? Лишь ответное презрение. Но заслуживает ли твой «человек» любви? Те, кто стремится к власти, кому охота ее осуществлять, сами берут ее себе, вам же остается смирно сидеть в своем углу и, гордясь своим человеческим званием, прислушиваться к свисту кнута... Они умеют использовать свой материал — человеческий материал, для них все одно — что люди, что муравьи: отработав, пусть себе подыхают и те и другие, муравей сделал свое дело — и конец!.. А я? Я плевать хотел и на господ, и на рабов, но сердцем и умом я на стороне господ. Одинокий всегда беспощаден, и мир принадлежит ему, а не мученикам и угнетенным...»