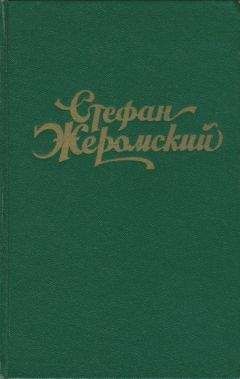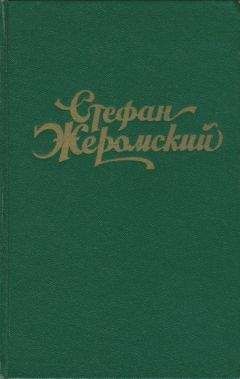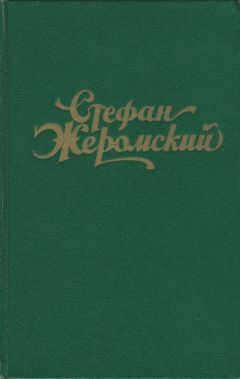Стефан Жеромский - Пепел
– «Поведай, о Лидия, почему ты желаешь любовью сгубить его, Сибариса? Почему опротивело Марсово поле ему, некогда столь терпеливому к пыли и зною…»
– Убирайся, говорю тебе, не то смертью погибнешь!
– Перечитай, Сибарис, со вниманием и проникновением сочиненьице старого оратора Марка Туллия Цицерона «De consolatione».[50]
– Ты кончишь сегодня?! Versus Archilochius maior, tetrameter dactylicus…[51]
С глубокой скорбью вздыхая, точно читая надгробную речь, а не радостную весеннюю песенку Горация, Рафал возглашал:
– Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto…[52] И, как бы продолжая, с самым мрачным видом проскандировал замогильным голосом:
Не хочу жениться, что мне торопиться…
За паннами лучше буду волочиться…
– Пойми ты, башкой своей «умащенной благовониями», что тут ничего не поделаешь. Хочешь не хочешь, а приходится согласиться с невинной и сладкой истиной, которую изрек лысый насмешник: «Ut homines mortem vel optare incipiant, vel certe timere désistant.[53] Это ведь так просто и легко выполнимо…
– А вот посмотрю я сегодня, боишься ты смерти или нет.
– Не боюсь, Рафця.
– Macte![54]
– Скажи мне, волосы длинные, светлые, светлые, светлые… Lydia, die, per omnes te deos oro, cur properes amando perdere…[55]
Рафал сидел, подперев подбородок кулаками, вперив глаза в окно. Перед ним расстилалась бесконечная даль. Широко разлившиеся воды Вислы, вздуваясь, терялись в дожде и тумане. Смутно серели погруженные в воду вербы. Словно отражения облаков, маячили по временам окаймленные ивняком луга, широкая равнина на правом берегу с местечками, узкими лентами деревень и полосами лесов. Рафал тщетно искал глазами дома Надбжежа и Тшесни и парки Дзикова, разросшиеся, как леса. Этот ландшафт будил странное чувство тревоги. Как темная дождевая туча охватывает небо, меняя свои очертания, так охватывала душу смутная жажда новых впечатлений, великих и упоительных тайн. Охватывала медленно, тихо, безмолвно… Казалось, что это просто скука, но она вдруг наплывала так властно, что раздражала, как пронзительный лязг железа.
Но вот она миновала, уплыла.
Вслед за нею потянулись сладкие грезы, долгие, бесконечные мечты, воспоминания о том, чего никогда не бывало, пришла удивительная тоска, от которой кипят слезы, тоска о настоящем счастье, которое кроется где-то там, во мгле. Неясные мысли роились в уме и расплывались в сонных видениях. Лунная ночь, все подернуто сияньем вокруг… Над лугами висит ровная пелена тумана. Верхом на коне он врезается в эту мглу, он скачет, едва касаясь стремян носками сапог. Чудно пахнет скошенными травами, сырым и холодным осенним сеном. От Вислы из зарослей ивняка тянет холодом. Место, по которому он едет ночью один, кажется ему чужим, незнакомым. Какое страшное место! Роса и паутина белеют в лунном сиянии. В глубоких оврагах тишина… Чудится, будто кто-то крадется за тобой по этим оврагам, несется следом за скачущим конем. Цепляется, как паутина, а когда остановишь коня и прислушаешься, замирает беззвучно. Глянешь назад – ничего, только серебристая роса спит под покровом ночного тумана…
Дождь то совсем застилал горизонт мутными струями, то утихал и переставал. Тогда становились видны земные воды несущейся реки и холодные, мертвенно-серые льдины.
Когда небо как будто прояснилось, Рафал стал еще громче выкрикивать стихи Горация; подойдя к окну, юноша долго с напряженным вниманием смотрел вдаль. Вдруг он радостным, замирающим от блаженства голосом, шепнул товарищу:
– Этот тощий рыбак, Бобжик, причаливает к берегу. Nunc decet aut viridi nitidum caput… Черт возьми, кот это гребет! Ты видишь? Видишь? Вот молодец!
– Да я ничего не вижу, – в отчаянии прошептал Кшись, тщетно силясь разглядеть что-нибудь близорукими глазами через мутные стекла.
– Весла у него, как перышки, гнутся в руках. Ах, боже, вот он плывет! Будь готов, Кшись…
В соседней комнате послышался громкий разговор, и товарищи снова принялись повторять свои pensa.[56]
Кшись приуныл. Нижняя губа его красивого рта оттопырилась, и светлые кроткие глаза приняли грустное выражение.
Кшись был дальний родственник Рафала, единственный сын богатого шляхтича с Вислоки. Оба они с Рафалом жили на пансионе у учителя Завадского, в домике, окруженном садами, неподалеку от развалин костела апостола Петра. Цедро был худой, щуплый и не очень крепкий юноша, учился он превосходно, хоть и не всегда с одинаковым усердием. Рафала он обожал за силу и отвагу и очень часто исполнял за него разные школьные задания.
У них вошло в обычай с наступлением вечера уходить гулять в сад, спускавшийся по склону горы к Висле. Там в сумерках они бегали взапуски, играли друг с дружкой в снежки и, когда удавалось, бросали снежками в проходивших евреев и даже, с прискорбием надо отметить, в проходивших католиков. Особенную ненависть они, ученики австрийской гимназии, питали к воспитанникам военной школы, которая помещалась в одном с ними здании, принадлежавшем когда-то иезуитскому монастырю. Стоило только показаться за садовой оградой какому-нибудь мальчугану из этой школы, как в него немедленно летело бесчисленное множество снежков, вымоченных ad hoc в воде и умело подмороженных.
В этот день, очутившись в саду учителя, оба школяра быстро сбежали по оврагу на самое дно долины Вислы. Холодный сумрак быстро спускался с туч. Он сам был подобен туче.
Рафал тщательно осмотрел все кругом. Нигде не было ни живой души. Он дал знак Кшисю. Оба перескочили через садовую ограду и остановились шагах в пятидесяти от реки. Холодом веяло от темных ее волн, и громко шуршали льдины, громоздясь друг на друга. Юноши, крадучись, шли по направлению к Злотой и видневшемуся вдали Самборцу. Они быстро перебежали Ягеллонскую дорогу и но топкой грязи добрели до самой воды. Сумрак уже спустился и окутал землю огромными складками.
Внизу на реке был ледяной затор.
Кто-то за обедом рассказал, что затор там получился ужасный. Им хотелось увидеть собственными глазами, действительно ли он так страшен, как рассказывали.
Рафал отыскал ту самую лодку, которую он видел из окна, когда она причаливала к берегу. Он еще раз огляделся…
Сандомир гордо высился над рекой. В предместье Рыбитвы и на горе светились уже огоньки…
Рафал отвязал лодку, отыскал в ивняке весла и прыгнул первый. Кшись последовал за ним и сел на корме.
Лодка была плоскодонная, неглубокая, на дне набралось много воды. Не успели юноши схватиться за весла, как течение ее подхватило и понесло прочь на середину реки. Они уперлись ногами в дно, взмахнули веслами и, налегая всей грудью, стали бороздить пену вод. Лодка неподатливо, тяжело, точно зарываясь в песок, повернула носом в сторону Тшесни.
– Раз, два! – скомандовал инициатор путешествия не свойственным ему суровым, грудным голосом.
Льдины плыли быстро и тяжело, словно обломки разбитых каменных стен храмов. Из лодки казалось, что это несется какой-то разрушенный материк, фантастическая взрытая земля, красная от мертвых песков, от следов неистовых и страшных зимних бурь. По временам прямо на лодку плыла плоская льдина, огромная, как потолок большого зала, острыми краями предательски целясь в борта суденышка. Рафал поднимал весло и наносил ей смертельный удар. Грозная ледяная плита послушно отодвигалась в сторону. Другие, послабее, от одного удара рассыпались в прах. При угасающем дневном свете на изломах льдин виднелись черно-зеленые полоски постепенно нараставших слоев. Вокруг слышался тихий шорох льдин. Из желтой глубины вырастали вдруг круги и спирали водоворотов, словно гигантские родники, бьющие из разверзшегося дна. По временам лодка сотрясалась от неожиданных ударов и зловеще трещала. Весла то и дело выхватывали из пенящегося водоворота льдинки, которые, скользя и шурша, взлетали вверх. Порою по быстрым волнам главного течения неслась огромная, похожая на скалу, глыба льда. Тогда лодка, оттолкнувшись упругими веслами, отскакивала в сторону и плыла наискосок.
Огонек, светившийся в каком-то окне на горе, следовал неотступно за лодкой и, дрожа и преломляясь в бурных волнах, пронзал их, как иглой. Когда его луч прорезал волны, юноши в первый раз увидели слепую пучину, с глухим ревом неудержимо несшуюся вперед.
В глубокой тьме душу обдало холодом, но чувство радости не пропало. Оба гребца испытывали физическое наслаждение, мчась с неслыханной быстротой в мягкой колыбели пучины. Они хватали ее веслами за горло и выворачивали ей суставы.
– Раз, два! – кричал Рафал с яростью в голосе, захлебываясь от счастья.
Весла гнулись, как лозы на ветру, но лодка, разбивая валы, шла наискось по речному простору. Трепетный луч света в волнах исчез, и непроницаемая темнота окутала лодку. Руки начали уставать. Пот лился с лица. Кровь стучала в висках.
Деревянное суденышко неслось по воле волн. Гребцы не могли уже ни повернуть его, ни направить по своему желанию. Вдруг оно с бешеной быстротой описало круг, загребая со свистом кормою воду, и замедлило бег.