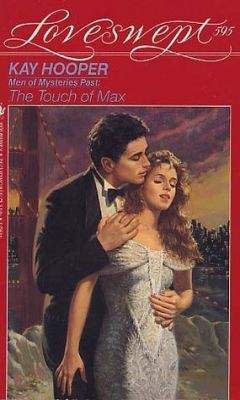Виктор Гюго - Отверженные (Перевод под редакцией А. К. Виноградова )
Сестра слышала, как он сказал: «Бедная тварь! Она в этом неповинна».
Почему не пересказать этих божественных ребячеств доброты? Пожалуй, это и мелочи, но эти высокие ребячества были ребячествами Франциска Ассизского* и Марка Аврелия*. Однажды епископ вывихнул себе ногу, не желая наступить на муравья.
Так жил этот праведник. Иногда ему случалось засыпать в саду, и ничего не могло быть почтеннее этого зрелища. Если верить рассказам о молодости преосвященного Бьенвеню, то в юности и даже в зрелом возрасте господин Мириель был человеком страстным, быть может, даже горячим. Его всеобъемлющая доброта была не столько прирожденным инстинктом, сколько результатом глубокого убеждения, мало-помалу проникшего из жизни в сердце и медленно слагавшегося капля за каплей. В характере, как и в граните, вода может проточить борозды. Подобные следы неизгладимы, и подобные породы камней прочны.
В 1815 году, как мы сказали, епископу минуло семьдесят пять лет, но на вид ему казалось не более шестидесяти. Роста был он небольшого, довольно полный, и он ходил пешком, желая победить склонность к тучности; походка у него была твердая, и стан очень незначительно сгорблен, — подробность, из которой мы не делаем никаких выводов.
Григорий XVI* в восемьдесят лет был прям и улыбался, что не мешало ему быть плохим пастырем.
У преосвященного Бьенвеню была, что называют, «красивая голова», но лицо его было так добродушно, что красота его забывалась.
Когда он беседовал с детской веселостью, бывшей одним из его очарований, упомянутым уже нами раньше, каждому было легко с ним, и казалось, что все существо его дышит радостью. Его свежий и румяный цвет лица, белые зубы, сохранившиеся в целости и обнажавшиеся, когда он смеялся, придавали ему открытый и искренний вид, заставляющий говорить о мужчине: «Он добрый малый», а о старике: «Он добряк!» Как помнит читатель, он произвел именно такое впечатление на Наполеона. По первому взгляду и для человека, видевшего его в первый раз, он действительно казался только добряком. Но в глазах того, кто проводил с ним несколько часов и особенно видел его задумчивым, добряк мало-помалу преображался во внушительного человека. Его широкий серьезный лоб, почтенный по морщинам, внушал уважение своими думами. От доброты веяло величием, хотя доброта и не переставала сиять; глядя на него, испытывалось чувство, похожее на то впечатление, которое внушал бы ангел, медленно расправляющий крылья, не переставая улыбаться. Уважение, бесконечное уважение постепенно охватывало вас и поднималось к сердцу, и вы чувствовали, что находитесь в присутствии одной из сильных, испытанных и снисходительных душ, в которых мысль достигла той высоты, где уже нет места ни для чего иного, кроме всепрощения.
Как уже видели ранее, молитва, исполнение церковной службы, благотворительность, утешение скорбящих, уход за маленьким клочком земли, братская любовь, воздержание, гостеприимство, самопожертвование, доверие, наука и труд наполняли дни всей его жизни. Слово «наполнять» совершенно точно, так как, конечно, его пастырский день был переполнен добрыми мыслями, словами и делами. Однако он не считал день свой полным, если холод или дождь не позволяли ему провести вечером час или два перед сном в саду, когда женщины уходили в свои комнаты. Эта привычка была словно каким-то обрядом приготовления ко сну размышлениями, в присутствии величественного зрелища ночного неба. Иногда очень поздно, если две старые женщины не спали, они слышали его медленные шаги по аллеям. Он был тогда наедине с самим собой; сосредоточенный, спокойный, он молился и сравнивал ясность своей души с ясностью небесного свода, умилялся среди темноты перед видимым великолепием созвездий и невидимым великолепием Творца и раскрывал свою душу мыслям, навеваемым Непостижимым. Он возносил свое сердце в тот час, когда ночные цветы возносят свои ароматы, изливаясь в упоении перед блеском мироздания. Быть может, он и сам не мог дать отчета, о чем он мыслил в эти минуты: он чувствовал только, как что-то возносится в нем и как что-то нисходит на него. Таинственный обмен между безднами души и безднами вселенной!
Он думал о величии и присутствии Божества, о великой тайне будущей вечности, о всех этих бесконечностях, убегавших из глаз в разные стороны, и, не стараясь понять Непостижимого, он созерцал. Он не изучал Бога — он удивлялся Ему. Он всматривался в чудесные встречи атомов, облекающих материю в формы, обнаруживающих и подтверждающих существование сил, создающих индивидуальность единиц, границы в пространстве, конечное в бесконечном и творящих красоту из лучей света. Беспрерывные встречи, сцепление и разъединение — в этом жизнь и смерть.
Он опускался на деревянную скамью, прислоненную к ветхой шпалере. Смотрел на звезды сквозь тощие силуэты плодовых деревьев. Эта четверть арпана земли, застроенная лачугами и амбарами, была мила ему и удовлетворяла его.
Чего же больше нужно было старику, посвящавшему свой досуг днем работе в саду, а ночью — созерцанию? Эта тесная ограда, где небо заменяло потолок, не доставляла ли возможности поклоняться Богу в самых грациозных и самых величавых его произведениях? Садик для прогулки и вид беспредельного неба для размышлений. У ног все то, что можно растить и собирать, над головой все, над чем можно думать и размышлять. На земле — несколько цветов. Наверху — все небесные звезды.
XIV.
Как он мыслил
Последнее слово.
Ввиду того что переданные нами подробности, особенно в настоящий момент, могли бы придать характеру диньского епископа известную «пантеистическую окраску», выражаясь модным языком нашего времени, и внушить мысль, во славу или в осуждение его, что он следовал личной философии, свойственной нашему веку, зарождающейся и развивающейся в некоторых одиноких умах и возвышающейся иногда до степени религии, мы настаиваем на том, что никто из знавших преосвященного Бьенвеню не считал себя вправе приписывать ему чего-либо подобного. Просвещало этого человека его сердце. Его мудрость основывалась на свете, исходящем из этого источника.
В нем было отсутствие системы — и много добрых дел. Отвлеченные спекуляции кружат голову, и ничто не доказывает, чтобы его ум углублялся в апокалиптические соображения. Апостол может отличаться смелостью, но епископу приличнее скромность. Он, вероятно, не позволил бы себе вдаваться в пристальный разбор некоторых специальных задач, предназначенных исключительно гигантским умам. Под таинственными сводами веет священным ужасом — эти темные врата стоят без затворов, но что-то говорит вам, простым прохожим жизни: «Не входите туда». Горе тому, кто переступит порог.
Гении предъявляют свои мысли Богу в форме глубоких абстракций и чистых спекуляций, стоящих, так сказать, выше догматов. Их молитва заключает смелый спор. Их поклонение вопрошает. Это уже непосредственная религия, полная тревоги и ответственности для того, кто отваживается возноситься на ее вершины.
Человеческая мысль не имеет границ. Она за собственный страх и риск углубляется в анализ собственного энтузиазма. Можно сказать, что в силу чудесного отражения она удивляет собой природу; таинственный мир, окружающий нас, откликается, и, вероятно, созерцатели, в свою очередь, являются предметом созерцания. Как бы ни было, но на земле есть люди; вопрос, однако, в том, действительно ли они люди, видящие отчетливо на горизонте своей мысли очертание абсолютного и которым дан страшный дар прозревать бесконечную его высоту? Преосвященный Бьенвеню не был из числа их: преосвященный Бьенвеню не был гением. Его пугали бы эти высоты, с которых многие великие умы, как Сведенборг и Паскаль*, соскользнули в безумие. Без сомнения, эти могучие грезы имеют нравственную пользу, и этот трудный путь приближает к идеальному совершенству. Но епископ избрал кратчайшую дорогу: Евангелие.
Он не старался придать своей ризе складок плаща святого Илии, он не освящал никакими пророческими лучами темных волн событий, не силился сосредоточить в пламя блуждающие огоньки предметов — в нем не было ничего пророческого и напоминающего ясновидца. Его кроткая душа любила, вот и все.
Что он расширял молитву до сверхъестественного общения — это вероятно. Но ни молитва, ни любовь не могут никогда быть чрезмерными, и если молиться больше указанного текста составляет ересь, то святая Тереза и святой Иеремия были еретиками.
Он склонялся над всем, что стонет и искупает. Вселенная казалась ему обширной больницей: он везде различал лихорадку, нащупывал страдание и, не мучаясь разгадкой причины, перевязывал рану. Страшное зрелище созданного наполняло его жалостью: он был занят только развитием в себе и в других лучшего способа соболезновать и помогать. Все живущее для этого доброго и редкого священника было предметом печали и предлогом для утешений.