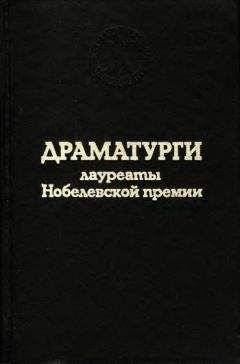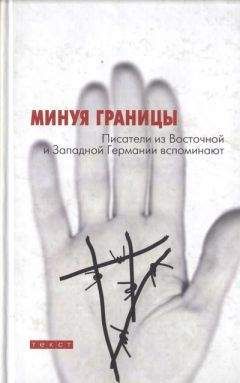Герхарт Гауптман - Атлантида
Древние по-разному определяли расположение входа в Аид. Но даже не обладая точными сведениями, несомненно можно утверждать, что их бесчисленное множество. Оперину вдруг вздумалось поговорить об Аиде с дерзким, своенравным пилигримом:
— Аид остался безымянным, точнее, невоспетым, и тому виною дух сродни тебе. Сей дух зовется Пиндар. Как не хватало песни той — и вот она пришла во снах, пригрезилась одной старухе в Дельфах, и та в честь этого на радостях велела изваять статую. А Пиндар был уж мертв. И если сам он был в пределах царствия Аида, неясно, отчего он не прочел свой стих богине царства мертвых, а доверил его старухе из земного мира.
Едва промолвил он это, как вдруг раздалось хихиканье: и озеро, и берег, и воздух — все наполнилось веселым смехом, и странник сам не смог удержаться от смеха. Ведь в той песне Аид назван богом со златою уздечкой.
— Если выберусь я когда-нибудь из этой местности, — сказал себе странник бедный, — то, пожалуй, соберусь я с силами и сложу песню о боге смерти и его златой уздечке. Быть может, в результате я пойму, что золотое Ничто все ж лучше, чем медное Нечто. И все это пойдет мне на пользу, коль скоро у меня достало сил чрез реку переправиться и смог я здесь прижиться, пусть и ненадолго. Вот вижу я там челн пустой, — сказал тогда он, — смелее, давай взойдем в него.
Сказано — сделано.
Без всякого сомнения — едва они взошли на челн, да и потом, когда оттолкнулись от берега, — со странником начали происходить некоторые метаморфозы. Дно лодки покрывала иссиня-черная вода, а в ней лежала сеть златая — казалось, что она только их и ждет. Друзья взялись за сеть и принялись ее забрасывать, как будто никогда ничем другим они не занимались. Они трудились сутки — а может, годы? — и подняли с глубин, весьма довольные своим уловом, немало всякой всячины: золото, отделившееся от солнца, лазоревую синеву, что дыбилась в воде, стремясь все вниз, и чаек, что бороздили бездонные глубины озера, и лунное светило в темноте, с которым было нелегко управиться — как с раскаленным шариком из железа. Чудо, что рыбаки и их челн не сгорели дотла! Все труднее было работать, но воздались им труды тяжкие, когда на поверхности черного моря Аида показались планеты, и звезды сверкающие, и сам Млечный Путь; был улов тот необъятен, и сокровища эти опьянили, одурманили тех рыбаков. Странно, что лодка их не тонула, равно как и челноки других рыбаков, что занимались тем же промыслом.
Странник много десятков лет жил среди картошки, репы, капусты, и многие его друзья стремительно исчезали, а потом появлялись вновь, как это было с Оперином. И вот теперь среди этих рыбаков на озере царило стеклянное молчание — лишь там кивок, а тут — взгляд. Коль суждено мне будет перебраться через эту реку снова, когда я тронусь в путь обратный, то я уж попытаюсь выяснить, кто встретился мне здесь.
Было бы ошибкой думать, что те глубинные тени не обладали весом: если бы все они весили согласно нормам тяжести, то не хватило бы всех кораблей океанских, чтобы перевезти сей груз. Но вес у них был особого свойства. Пилигрим чувствовал, что и его самого, и челн, и груз медленно, но неумолимо затягивает вглубь. Боль и тоска сковали его душу при виде того, как кружатся в водовороте и уходят под воду те, кто еще мгновение назад существовал.
— Да, да, конечно, это уже не конкретные души — та и эта, — добавил Оперин, как будто и он чувствовал то же самое, что и Теофраст, — ведь и в том мире они были уже великими кудесниками, чудесными музыкантами от бога, и без их музыки никогда бы ничего не было достойного в мире картошки, репы, капусты. Эти странные поглотители пищи принимали — правда, не спрашивая ни о чем — мясо убиенных тварей, но это все обращалось в конечном счете в дух, точнее — в дух божественный.
И вот случилось нечто — ощущения странника перешли в какой-то легкий ужас. На берегу лежало бесчисленное множество серебристых чешуйчатых шкурок. А по воде скользила венценосная гадюка. Она устремилась через поток необычайно быстро. Когда же она поравнялась с лодкой, то обвила челнок светящимся телом, которое переливалось радужными красками, и так остановила его неумолимое движение вниз.
— Пора, пора, давно пора, — сказала она.
Но в тот же миг снова произошло нечто — и значение этого понять был странник не в силах. А дело в том, что лев, в обычной жизни избегающий воды — во всяком случае, он не рискнул бы искупаться в этом странном озере — теперь носился по берегу, точно обезумев. Он вел себя как бешеный — прыгал на деревья, что обыкновенно отнюдь не свойственно львам, и все рычал, как будто был готов всех разодрать в клочки. Казалось, он вовсе лишился рассудка, не может найти пути назад, вот и скачет, мечется, отчаявшись.
«Вот надоело зверю разыгрывать из себя кроткую лань, — подумал Теофраст, — он смотрит на меня теперь как на добычу».
— Одолел его голод, — сказал Оперин.
— Если одолеет такого зверя голод, то терзает он его столь сильно, — сказал Оперин, — что лишь удар жестокий, ломающий хребет жирафу, принесет ему желанное облегчение.
Они попытались подобраться поближе к берегу, хотя и рисковали угодить прямо в лапы хищнику. А челн тем временем все быстрее и быстрее, неотвратимо шел ко дну.
Но вот едва пилигрим ступил на берег, лев тут же выбрал верный путь: как будто только беспокойство за судьбу странника заставило его так безумствовать; он присмирел теперь, подошел к нему и ласково прижался к его коленям.
Весь тот ужас, который странник испытал, когда лодка шла ко дну, и лев, и змея, и то, как они себя держали, — все это привело его к мысли вернуться к переправе. Подействовало ли это на Оперина? Ему не хотелось покидать этого берега реки, он постепенно избавлялся от материальной оболочки. В какой-то миг — исчез он, а змея и лев остались с пилигримом.
Повстречалась им целая стайка огоньков. Они были явно раздосадованы тем, что гость, пришедший в междуречье, намерен будто возвращаться. Они спросили: разве он еще не видел их удивительные храмы на берегу реки, храмы с жертвенниками, всех цветов, голубые, зеленые, желтые, красные, где самые красивые служительницы готовы угодить гостю и исполнить его малейшее желание?
— Нет, там я не был.
Неужели он не попробовал хотя бы яблочек в садах Гесперидовых? Они ведь рядышком совсем!
— Я отведал их уже, наелся вволю, а сейчас мне не хочется.
Неужели покинет он эти места и не взглянет на святейшую святыню с крематорием, где обычно собираются все огоньки и жгут день и ночь людскую глупость?
— Не пойду я в крематорий, ибо есть такое и в мире картофеля, репы и капусты, и я сам, именуемый Теофрастом, совершил великую ошибку, что вовлекся во все это.
Не убедило это огоньков. Указали они на серые тучи и голубой дым, что поднимался над лесистым холмом и клубился над трубами грозного замка.
— Это все пустяки, — говорили они. — Здесь ведь только обращают в пепел людскую глупость.
Отвечал Теофраст:
— Может быть, вам удастся заполучить моего друга, бывшего некогда фамулусом Оперином. Мне же слишком хорошо известно, что глупость — не труп, а бессмертная жизнь.
И на том он оставил огоньков, не удостоив их более ни словом, и полетел он — ибо не мог больше просто идти, хотелось ему теперь лететь, — полетел он в те края, откуда пришел.
Только вот откуда пришел он, неведомо нам.
МИНЬОНА
А теперь я примусь за истории о привидениях.
Гете Шиллеру, Веймар, 23 декабря 1794 года.ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Что же это было такое, что заставило меня вновь, почти через тридцать лет, обратиться к Жан-Полю[161] и его роману «Титан»? Должно быть, я сулил себе второе рождение, и притом в двойном смысле: свое собственное и этой книги. Когда-то в Риме я, немецкий юнец, страстно тянувшийся к красоте — совсем как Винкельман,[162] — оказался лицом к лицу с ней, а заодно и со смертью. В ту пору из-за антисанитарного водоснабжения во многих городах мира вспыхнула эпидемия тифа. Она-то и уложила меня в постель, которая чуть не стала моим смертным одром. Я медленно поправлялся, и тут уж не знаю какая добрая душа подбросила мне на одеяло жанполевского «Титана».
Тогда мир этой книги захватил меня сильнее, чем «Фауст», и мне казалось величайшей несправедливостью, что ее не ставят выше творения Гете.
Итак, как уже сказано: я сулил себе второе рождение — этой книги в том, тогдашнем духе, и мое собственное — точно в таком же. Ибо хотя тогда, после перенесенной болезни, я был настолько слаб, что едва мог поднять голову и шевельнуть рукой, какая-то неуловимая нить протянулась от меня к потустороннему и одновременно земному миру. Потом я снова и снова искал ту загадочную гармонию, объединявшую юность и старость, и свято хранил воспоминание о ней.