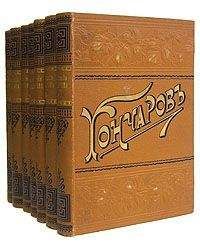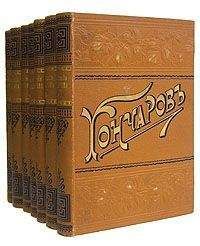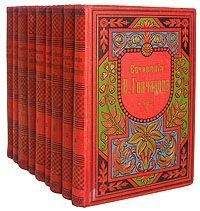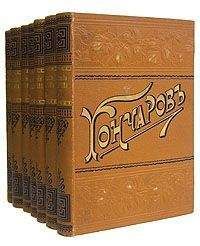Иван Гончаров - Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том. 7
Она как будто ничего: из вчерашнего только заметна была несвойственная ей развязность в движениях и излишняя торопливость речи, казавшаяся натянутой. Очевидно было, что она крепится и маскирует расстроенность духа или нерв.
Она даже вдалась в подробности о нарядах с Полиной Карповной, которая неожиданно явилась в кабинет бабушки с какими-то обещанными выкройками нового
581
фасона платья для приданого Марфиньки, а в самом деле чтоб узнать о возвращении Бориса Павловича.
Она всё хотела во что бы то ни стало видеться с ним наедине и всё выбирала удобную минуту сесть подле него, уверяя всех и его самого, что он хочет что-то сказать ей без свидетелей.
Она делала томные глаза, ловила его взгляд и раза два начинала тихо: «Je comprends: dites tout! du courage!»1
«Ну тебя к черту!» – думал он, хмурясь и отодвигаясь от нее.
Наконец Вера надела пальто, взяла его под руку и сказала:
– Пойдемте!
Крицкая порывалась было идти с ними, но Вера уклонилась, сказав:
– Мы идем пешком и надолго с братом, а у вас, милая Полина Карповна, длинный шлейф, и вообще нарядный туалет – на дворе сыро…
И ушли.
Райский молчал, наблюдая Веру, а она старалась казаться в обыкновенном расположении духа, делала беглые замечания о погоде, о встречавшихся знакомых, о том, что вон этот дом еще месяц тому назад был серый, запущенный, с обвалившимися карнизами, а теперь вон как свежо смотрит, когда его оштукатурили и выкрасили в желтый цвет. Упомянула, что к зиме заново отделают залу собрания, что гостиный двор покроют железом, остановилась посмотреть, как ровняют улицу для бульвара.
Она вообще казалась довольной, что идет по городу, заметив, что эта прогулка была необходима и для того, что ее давно не видит никто и Бог знает, что думают, точно будто она умерла.
Райский ни слова не отвечал на весь этот развязный лепет, под которым слышались ему совсем другие речи.
– Может быть, я дурно делаю, что лишаю вас общества Полины Карповны? – заметила она, напрасно стараясь вывести его из молчания.
Он сделал нетерпеливое движение плечом.
– Я шучу! – сказала она, меняя тон на другой, более искренний. – Я хочу, чтоб вы провели со мной день, и
582
несколько дней до вашего отъезда, – продолжала она почти с грустью. – Не оставляйте меня, дайте побыть с вами… у меня такая тоска, если б вы знали… Вы скоро уедете – и никого около меня!..
– Я боюсь, Вера, что я совершенно бесполезен тебе, именно потому, что ничего не знаю. Вижу только, что у тебя какая-то драма, что наступает или наступила катастрофа…
Она вздрогнула.
– Что ты? – заботливо спросил он.
– Свежо на дворе, плечи зябнут! – сказала она, пожимая плечами. – Какая драма! нездорова, невесела, осень на дворе, а осенью человек, как все звери, будто уходит в себя. Вон и птицы уже улетают – посмотрите, как журавли летят! – говорила она, указывая высоко над Волгой на кривую линию черных точек в воздухе. – Когда кругом всё делается мрачно, бледно, уныло, – и на душе становится уныло… Не правда ли?
Она сама знала, что его нелегко было обойти таким объяснением, и говорила так, чтоб не говорить правды.
Он молчал, стараясь отыскать другой, настоящий ключ.
– Вера, я хотел тебя спросить… – начал он.
– Что такое? – с беспокойством перебила она и, не дождавшись ответа, прибавила, – хорошо, спросите, только не сегодня, а погодя несколько дней… Однако – что такое?
– О письмах, которые ты писала ко мне…
– Да: что же такое?
– Помнишь, ты писала, что разделяешь мой взгляд на честность…
Она подумала и, казалось, старалась вспомнить.
– Да… да… как же, как же… писала… так что же?
Он глядел на нее пристально.
– Ты ли писала это письмо?
– Кто же? – вдруг сказала она с живостью, – конечно я… Послушайте, – прибавила она потом, – оставим это объяснение, как я просила, до другого раза. Я больна, слаба… вы видели, какой припадок был у меня вчера. Я теперь даже не могу всего припомнить, что я писала, и как-нибудь перепутаю…
– Хорошо, пусть до другого раза! – со вздохом сказал он. – Скажи, по крайней мере, зачем я тебе? Зачем ты удерживаешь меня? Зачем хочешь, чтоб я остался, чтоб пробыл с тобой эти дни?
583
Она сильно оперлась рукой на его руку и прижалась к его плечу, умоляя глазами не спрашивать.
– Ведь не любишь же ты меня в самом деле. Ты знаешь, что я не верю твоей кокетливой игре, – и настолько уважаешь меня, что не станешь уверять серьезно… Я, когда не в горячке, вижу, что ты издеваешься надо мной: зачем и за что?
Она сильно сжала его руку и молила опять глазами не продолжать.
– По крайней мере, о себе я вправе спросить, зачем я тебе? Ты не можешь не видеть, как я весь истерзан, и страстью, и этим градом ударов сердцу, самолюбию…
– Да, самолюбию… – повторила она рассеянно.
– Положим, самолюбию, оставим спор о том, что такое самолюбие и что – так называемое – сердце: но ты должна сказать, зачем я тебе? Это мое право – спросить, и твой долг – отвечать прямо и откровенно, если не хочешь, чтоб я счел тебя фальшивой, злой…
Она шла с поникшей головой, а он ждал ответа.
– Оставим теперь это…
– И это оставим? Нет, не оставлю! – с вспыхнувшей злостью сказал он, вырвав у ней руку, – ты, как кошка с мышью, играешь со мной! Я больше не позволю, довольно! Ты можешь откладывать свои секреты до удобного времени, даже вовсе о них не говорить: ты вправе, а о себе я требую немедленного ответа. Зачем я тебе? Какую ты роль дала мне и зачем, за что?
– Вы сами выбрали эту роль, брат… – кротко возразила она, склоняя лицо вниз. – Вы просили не удалять вас…
Он, в бессильной досаде на ее справедливый упрек, отшатнулся от нее в сторону и месил широкими шагами грязь по улице, а она шла по деревянному тротуару.
– Не сердитесь, брат, подите сюда! Я не за тем удержала вас, чтоб оскорблять – нет! – шептала она, призывая его к себе. – Подите сюда, ко мне.
Он опять подал ей руку.
– Я прошу вас только не говорить мне об этом теперь, не тревожить меня – чтоб со мной не случилось опять вчерашнего припадка!.. Вы видите, я едва держусь на ногах… Посмотрите на меня, возьмите мою руку…
Он взял руку – она была бледна, холодна, синие жилки на ней видны явственно. И шея, и талия стали у ней тоньше, лицо потеряло живые цвета и сквозилось
584
грустью и слабостью. Он опять забыл о себе: ему стало жаль только ее.
– Я не хочу, чтоб дома заметили это… Я очень слаба… поберегите меня… – молила она, и даже слезы показались в глазах. – Защитите меня… от себя самой!.. Ужо, в сумерки, часов в шесть после обеда, зайдите ко мне – я… скажу вам, зачем я вас удержала…
– Виноват, Вера: я тоже сам не свой! – говорил он, глубоко тронутый ее горем, пожимая ей руку, – я вижу, что ты мучаешься – не знаю, чем… Но – я ничего не спрошу, я должен бы щадить твое горе – и не умею, потому что сам мучаюсь. Я приду ужо, располагай мною…
Она отвечала на его пожатие сильным пожатием руки.
– Скажу, если в силах буду сказать… – прошептала она.
У него замерло сердце от тоски и предчувствия.
Они прошли по лавкам. Вера делала покупки для себя и для Марфиньки, также развязно и словоохотливо разговаривая с купцами и с встречными знакомыми. С некоторыми даже останавливалась на улице и входила в мелочные, будничные подробности, зашла к какой-то своей крестнице, дочери бедной мещанки, которой отдала купленного на платье ей и малютке ситцу и одеяло. Потом охотно приняла предложение Райского навестить Козлова.
Когда они входили в ворота, из калитки вдруг вышел Марк. Увидя их, он едва кивнул Райскому, не отвечая на его вопрос: «Что Леонтий?» – и, почти не взглянув на Веру, бросился по переулку скорыми шагами.
Вера вдруг будто приросла на минуту к земле, но тотчас же оправилась и также скорыми шагами взбежала на крыльцо, опередив Райского.
– Что с ним? – спросил Райский, глядя вслед Марку, – не отвечал ни слова, и как бросился! Да и ты испугалась: не он ли уж это там стреляет?.. Я видел его там с ружьем… – добавил он шутя.
– Он самый! – сказала Вера развязно, не оборачиваясь и входя в комнату Козлова.
«Нет, нет, – думал Райский, – оборванный, бродящий цыган – ее идол, нет, нет! Впрочем, почему “нет”? Страсть жестока и самовластна: она не покоряется человеческим соображениям и уставам, а покоряет
585
людей своим неизведанным капризам! Но Вере негде было сблизиться с Марком. Она боится его, как все здесь!»
Козлов по-вчерашнему ходил, пошатываясь, как пьяный, из угла в угол, угрюмо молчал с неблизкими и обнаруживал тоску только при Райском, слабел и падал духом, жалуясь тихим ропотом, и всё вслушивался в каждый проезжавший экипаж по улице, подходил к дверям в волнении и возвращался в отчаянии.
На приглашение Райского и Веры переехать к ним он молчал, едва вслушиваясь, или скажет:
– Да, да, только после, погодя недели две… три…
– После свадьбы Марфиньки, – сказала Вера.