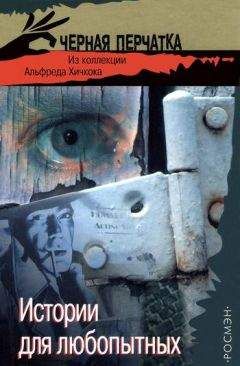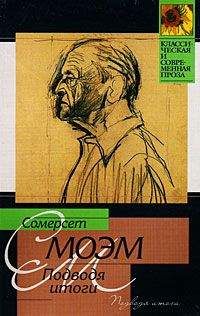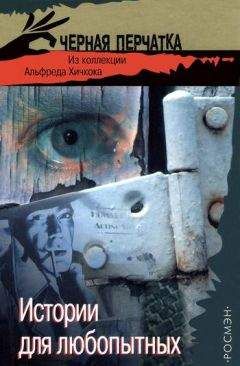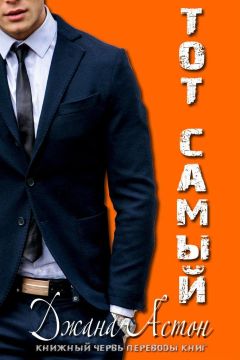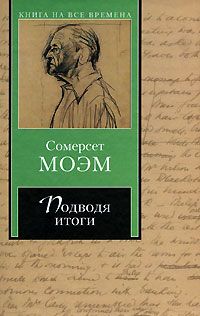Уильям Моэм - Собрание сочинений в пяти томах. Том пятый. Пьесы. На китайской ширме. Подводя итоги. Эссе.
Но такая бесстрастность возмущала многих современных ему авторов и вызывала резкие нападки. Его обвиняли в равнодушии к событиям и общественным условиям того времени. Русская интеллигенция требовала от писателей, чтобы они вплотную занимались такими вопросами. Чехов же в ответ говорил: дело писателя — показывать факты, а читатели пусть сами решают, как тут быть. Он считал, что от художника нельзя требовать рецептов разрешения частных вопросов. Для частных вопросов есть специалисты, писал он, вот пусть они и судят общество, предсказывают судьбы капитализма, осуждают пьянство. Это кажется справедливым. Но поскольку такая точка зрения в настоящее время широко обсуждается в литературных кругах, я позволю себе привести здесь некоторые собственные замечания, высказанные несколько лет назад в лекции перед Национальной книжной лигой. Как-то я, по обыкновению, прочитал литературную страницу одного из наших лучших английских еженедельников, на которой рассматриваются последние произведения современной литературы. На этот раз критическая статья начиналась так: «Мистер Имярек не просто рассказчик». Словечко «просто» стало у меня поперек горла, и я, подобно Паоло и Франческе, в тот день не дочитал листа. Автор рецензии — сам известный романист, и, хотя я не имел счастья прочесть ни одной его книги, не сомневаюсь, что они достойны восхищения. Но из вышеприведенной фразы приходится заключить, что, по его мнению, быть романистом — мало, надо быть еще кем-то сверх этого. Очевидно, он пусть не без колебаний, но все же принял распространенный сегодня среди писателей взгляд, что будто бы в современном неспокойном мире неприлично писать романы, предназначенные только для приятного времяпрепровождения читателей. Теперь такие книги призираемы за «эскепизм». Но слово «эскепизм», как и «халтура», настала пора выбросить из критического лексикона. Эскепично все искусство, и симфонии Моцарта, и пейзажи Констебла; разве, читая сонеты Шекспира или оды Китса, мы ищем в них что-то сверх того восхищения, которое они нам внушают? Почему же спрашивать с прозаика больше, чем с поэта, композитора или живописца? Такого явления, как «просто рассказ», на самом деле не существует. Когда прозаик пишет рассказ, он волей-неволей, хотя бы для того, чтобы было интереснее читать, так или иначе критикует жизнь. Редьярд Киплинг, сочиняя свои «Простые рассказы с гор», где описываются чиновники английской администрации в Индии, офицеры, играющие в поло, и их жены, писал обо всем этом с наивным восхищением молодого репортера из скромной семьи. Эти люди казались ему блестящими представителями высших сфер. Но диву даешься, как это могло быть, чтобы никто тогда не увидел в его рассказах обвинительного приговора Предержащим Властям. Ведь когда читаешь их теперь, выносишь ясное впечатление, что рано или поздно англичанам неизбежно придется отпустить Индию из-под своего владычества. То же самое с Чеховым. При всем том, что он старается быть предельно объективным и описывать жизнь как можно правдивее, невозможно, читая его рассказы, не чувствовать, что жестокость и бескультурье, о которых он пишет, коррупция, нищета бедных и равнодушие богатых неизбежно приведут в конце концов к кровавой революции.
Я думаю, что большинство людей читают художественную литературу от нечего делать. Они хотят получать от чтения удовольствие, и это их право, однако разные люди ищут разного удовольствия. Есть, например, удовольствие узнавания. Современникам Троллопа было приятно читать «Барчестерские хроники», потому что они узнавали в его описаниях ту жизнь, которую вели сами. Его читатели принадлежали главным образом к верхней прослойке среднего класса, и он как раз описывал жизнь верхней прослойки среднего класса. Его книги давали современникам такое же приятное, уютное чувство самоудовлетворенности, как и строки «милейшего мистера Браунинга» о том, что «Господь в небесах, и все в этом мире прекрасно». Потом, с течением времени, романы Троллопа приобрели привлекательность старинных жанровых картин. Нам они кажутся забавными и довольно трогательными (как хорошо жилось в том мире, где обеспеченному люду все в жизни давалось легко и любые сложности разрешались в конце концов к полному взаимному счастью!), в них есть для нас сегодня то же очарование, что и в уморительных гравюрах середины прошлого века, на которых изображены бородатые джентльмены во фраках и цилиндрах и миловидные леди в капорах с козырьком и кринолинах. Но есть и такие читатели, что ищут в книгах новое и неизвестное. У рассказа на экзотические темы всегда были свои поклонники. Большинство людей живет страшно скучно и однообразно, и для них огромное облегчение — погрузиться на какое-то время в мир опасностей и приключений. Но по-видимому, русские читатели Чехова получали от его рассказов удовольствие совсем иного свойства, чем читатели западноевропейские. Им и самим было отлично известно положение народа, которое он так наглядно изображает. Английскому читателю рассказы Чехова сообщают много нового и необычного, порой ужасного и горького, но своей правдивостью они производят сильное, чарующее и даже романтическое впечатление.
Только очень простодушный человек способен думать, что из художественной литературы можно почерпнуть надежные сведения, необходимые для решения насущных, жизненно важных вопросов. Писатель подчиняется своему творческому дару, на него нельзя полагаться. Он пишет то, что чувствует, воображает и придумывает, а рассуждать — не его дело. Он — лицо предубежденное. Предубеждением определяется и тема, которую он избирает, и персонажи, которых он создает, и его отношение к ним. В том, что он пишет, выражается его личность, проявляются его инстинкты, эмоции, интуиция и опыт. Игра, которую он ведет, заведомо нечестная, иногда сам он об этом даже не знает, а иногда, наоборот, знает очень хорошо и в этом случае пускает в ход все свое искусство, чтобы читатель его не разоблачил. Генри Джеймс считал, что рассказчик должен стремиться к драматизму. То есть он в завуалированной форме призывает к тому, чтобы автор определенным образом компоновал факты, возбуждая и поддерживая интерес читателей. Известно, что сам Генри Джеймс именно так всегда и делал; а вот для текстов информативных, научных этот метод, конечно, не годится. Но если кто-то интересуется насущными проблемами современности, пусть лучше, как советовал Чехов, читает не повести и рассказы, а ученые книги на эти темы. Настоящая цель художественного произведения — не учить, а восхищать.
Писатели — люди незаметные. Их не приглашают на ежегодный банкет к лорду-мэру в Сити, не награждают титулом «почетный гражданин» того или иного большого города. Им не выпадает честь разбить бутылку шампанского о нос спускаемого на воду океанского лайнера. Ради них не собираются на улице толпы, как ради кинозвезд, дабы видеть, как они выходят из отеля и садятся в «роллс-ройсы». Им не поручают открывать благотворительные базары в помощь обедневшим дамам из благородных семей или под восторженные клики зрителей вручать серебряный кубок победителю Уимблдонского турнира. Но все равно с доисторических времен появлялись среди человечества творцы, наделенные способностью украшать своим искусством суровые будни жизни. Можно съездить на Крит и удостовериться, что чаши, кубки и кувшины спокон веку украшались орнаментами, и не потому, что от этого они делались удобнее в употреблении, а потому, что так красивее. И на протяжении столетий художники обретали удовлетворение в создании произведений искусства. Если писатель создал художественное произведение, он свою задачу выполнил. Делать из рассказа кафедру или трибуну — кощунство.
VI
Я думаю, было бы несправедливо завершить это несвязное эссе о рассказе, не упомянув талантливого автора, чье творчество в промежутке между двумя войнами пользовалось большой любовью читающей публики. Я говорю о Кэтрин Мэнсфилд. Если сегодня технические приемы английской новеллистики разнятся от приемов, которыми пользовались мастера прошлого века, то это во многом ее заслуга. Здесь, разумеется, не место излагать историю жизни мисс Мэнсфилд, но, поскольку ее рассказы носят большей частью очень личный характер, кое-какие сведения из ее биографии необходимо привести. Родилась она в 1888 году в Новой Зеландии. Совсем еще юной написала несколько миниатюр, в которых обнаружила явные литературные способности, и решила непременно стать писательницей. Жизнь в Новой Зеландии кажется ей скучной и пошлой, она уговаривает отца отпустить ее в Англию, где вместе с сестрами она два года училась в школе. Респектабельные родители испытывают потрясение, узнав, что у их дочери был короткий роман с одним молодым человеком, с которым она познакомилась на балу, и, вероятно, поэтому они в конце концов соглашаются отпустить ее в Англию. Отец назначает ей содержание — сто фунтов в год, что по тем временам, да еще для девушки, при экономном образе жизни было достаточно. В Лондоне Кэтрин Мэнсфилд возобновляет знакомство кое с кем из своих новозеландских друзей. Среди них был Арнольд Трауэл, к этому времени уже довольно известный виолончелист. В Новой Зеландии она была без памяти в него влюблена, но здесь переносит свои чувства на его младшего брата, скрипача. Они становятся любовниками. За комнату и питание в пансионе для одиноких женщин она платила двадцать пять шиллингов в неделю, и тем самым на одежду и развлечения ей оставалось всего пятнадцать шиллингов. Жить в таких стесненных обстоятельствах было не очень-то приятно, и, когда учитель пения по имени Джордж Бауден, десятью годами старше ее, предложил ей стать его женой, она согласилась. Выходила замуж Кэтрин Мэнсфилд в черном платье, и единственным свидетелем при бракосочетании была ее подруга. Молодожены отправились на ночь в гостиницу, но новобрачная не позволила мужу осуществить то, что он рассматривал как свое законное супружеское право, и на следующий день оставила его. Позднее она написала о нем убийственный рассказ под названием «День мистера Реджинальда Пикока». Она поехала в Ливерпуль к своему любовнику, который играл там в оркестре передвижной труппы музыкальной комедии, и, как рассказывают, некоторое время работала в этой же труппе хористкой. Она была беременна, но знала ли она об этом, когда выходила замуж, остается неясным. Родителям Кэтрин отправила две телеграммы: о предстоящем замужестве и следом — о том, что она оставила мужа. Мать приехала в Англию, чтобы разобраться, что же, собственно, происходит, и была, должно быть, страшно скандализована, когда обнаружила свою дочь, как говорилось в викторианские дни, «в интересном положении». Кэтрин отправляют впредь до родов в Баварию, в городок Верисхофен. Там она прочитала рассказы Чехова, по-видимому, в немецком переводе и сама написала серию рассказов, позднее опубликованных под общим названием «В немецком пансионе». В результате несчастного случая она преждевременно разрешилась мертвым ребенком. И, поправившись, вернулась в Англию.