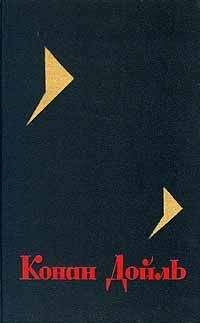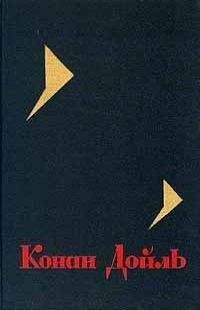Михаил Салтыков-Щедрин - Благонамеренные речи
– А того не понимает, что свинья – сама по себе, а поросенок – сам по себе.
– Поросеночка, да молочненького, да ежели с неделю еще сливочками подкормить… Это – что же такое!
– Кожица-то у него, ежели он жареный… заслушаешься, как она на зубах-то хрустит!
– А я, признаться, больше люблю вареного… да тепленького, да чтоб сметанки с хренком…
– В Английском клубе, в Москве, в прежние времена повар был… ах, хорошо, бестия, поросят подавать умел!
Опять пауза; все трое смотрят в землю, словно подавленные воспоминаниями. Наконец Павел Матвеич восклицает:
– Ах, заграница! заграница!
Я думал, что этим восклицанием кулинарные воспоминания исчерпаются; но, видно, много накипело в душе у этих людей, и это многое уже не могло держаться под спудом ввиду скорого свидания с родиной.
– Баранина у них – вот это так! А что касается до говядины, до телятины – всё у нас лучше!
– Крысы у них хороши в Париже; во время осады, говорят, всё крысами питались.
– Ну, я, кажется, озолоти меня – не стану крысу есть.
– Однако! смотря потому…
– С голода лопну, а не стану!
– А француз ест; соусцем приправит, перчиком сдобрит и ест. Может, и мы когда-нибудь в Париже кошку за лапена съели.
– И съели.
– Вот оно что соус-то значит!
– Велико дело – соус!
– У нас этих соусов нет, потому что наша еда – настоящая.
– Как же возможно! наша ли еда или заграничная!
Все трое разом зевнули и потянулись: знак, что сюжет начинал истощаться, хотя еще ни одним словом не было упомянуто об ветчине. Меня они, по-видимому, совсем не принимали в соображение: или им все равно было, есть ли в вагоне посторонний человек или нет, или же они принимали меня за иностранца, не понимающего русского языка. Сергей Федорыч высунулся из окна и с минуту вглядывался вперед.
– Что? видно? – спросил его Василий Иваныч.
– Бог знает! видно что-то, да не разберу!
– Да, мудрена Россия-матушка! не скоро ее разберешь!
Павел Матвеич только махнул рукой и сильнее прежнего затянулся папироской.
– И прежде трудно было, – сказал он, – а теперь, как везде наследили следов, пожалуй, и совсем не разберешь! Везде для тебя дорога написана, и нигде тебе дороги нет!
– Именно. У меня, в Навозном, дело завелось; сам-то я за границу уехал, так ходоку поручил, – представьте! пишет, что четвертый месяц начальства ищет, не может найти!
– Как так?
– Да так вот. Исправник нынче никаких дел не принимает, а мировые – один в отставку вышел, другой, по болезни, не правит, а третий по уезду ездит, поймать нигде нельзя. Нет начальства – хоть волком вой!
– А вот французы, у них начальства даже по закону не положено, а живут!
– Спросили бы вы, как живут-то! тоже ведь, как и мы, грешные, горе мыкают! Голоштанники да республиканцы – те, конечно, рады! а хороших людей спросите – ой-ой, как морщатся!
– Как можно без начальства! без начальства – мат!
– И хоть бы свобода была! Республика да республика, а посмотришь да поглядишь – право, у нас свободнее!
– Как же возможно! у нас – простор!
– У нас, коли ты сидишь смирно, да ничего не делаешь, так никто тебя не тронет – Христос с тобой, хоть два века смирно сиди!
– А захотел разговаривать – так не прогневайся!
– И дельно – потому, молчи!
– Насмотрелся-таки я на ихнюю свободу, и в ресторанах побывал, и в театрах везде был, даже в палату депутатов однажды пробрался – никакой свободы нет! В ресторан коли ты до пяти часов пришел, ни за что тебе обедать не подадут! после восьми – тоже! Обедай между пятью и восемью! В театр взял билет – так уж не прогневайся! ни шевельнуться, ни ноги протянуть – сиди, как приговоренный! Во время представления – жара, в антрактах – сквозной ветер. Свобода!
– Да, посидишь в тисках – запросишь простору! А впрочем, правду надо сказать: бестии эти француженки, можно для них и в тисках посидеть! Насчет это лямуру или ляшозу…
– Как вам сказать! ведь и насчет лямуру они больше у нас распоясываются. Знают, что денег у русских много, – ну, и откалывают. А в Париже и половины тех штук не выделывают, что у нас.
– Говорят, Мак-Магонша лямуру не любит.
– Да, и она. Много она для Франции полезного сделала, а частичка тоже и вреда есть. Главное дело – иностранцев от Парижа отвадила. Возьмем хоть бы нас, русских: кабы настоящим-то манером, как при Евгении, лямур выделывали, да нас бы, кажется, и не отодрать оттоле!
– Кричат: "Республика!", а свободы не дают!
– Скажите, однако ж: я слышал, что картинки такие в Париже продаются… интересные будто бы картинки приобрести можно?
– Это для стереоскопа, что ли? Я целую охапку с собой захватил!
– Интересны?
– Отдай всё, да и мало!
– Тсс…
– Да у них еще то ли есть! В модных магазинах показывают, как барыни платья примеривают! Приедет, это, дама – и всё из большого света! – разденется декольте, а из соседней комнаты кавалер на нее сквозь щелочку и смотрит.
– Ишь ты! а она, сердешная, и не знает?
– Иные и знают, нарочно знакомиться с кавалерами приезжают. Повертывается она декольте перед зеркалом, а из засады – кавалер: же лоннёр… Большие съезды бывают.
– И наши, чай, барыньки…
– Чего уж!
Каждый смотрит на каждого вопрошающим взглядом, словно хочет сказать: "А что, брат, уж не твоя ли?"
– Ах, дамочки наши! дамочки! – вздыхает Сергей Федорыч.
– Так вы и в палате депутатов побывали? – любопытствует Павел Матвеич.
– Был, в самый раз попал, амнистию обсуждали. Галдят, а толку нет. Знают, что придет Наполеон, и всем им одно решение выйдет – в Кайенну ушлют.
– Вот и этого у нас нет!
– Зачем нам! У нас, коли ты сидишь смирно, да ничего не делаешь – живи! У нас все чередом делается. Вот, приедем в Вержболово – там нас рассортируют, да всех по своим местам и распределят.
– Турки-то! турки-то тоже конституции запросили! ах, прах их побери!
– Смехота!
– То-то оно и есть! даже у турок взбеленились, а у нас – спокой!
– Нам конституциев не надо! Мы и без них проживем! Разъедемся теперь по деревням, амуницию долой – спокой!
Все трое заговорили разом: "У нас как возможно! У нас – тишина! спокой! каких еще там конституциев! долой амуницию – чего лучше!" Гул стоял в отделении вагона от восклицаний, лишенных подлежащего, сказуемого и связки.
– Нет, вы только сообразите, сколько у них, у этих французов, из-за пустяков времени пропадает! – горячился Василий Иваныч, – ему надо землю пахать, а его в округу гонят: "Ступай, говорят, голоса подавать надо!" Смотришь, ан полоса-то так и осталась непаханная!
– И ништо им! пущай без хлеба сидят!
– Зато у нас мужичка никто уж не тронет: паши себе да паши!
– Разве с подводой выгонят, так ведь без этого тоже нельзя!
– Подвода – дело! а у них что!
– Ах, французы! французы! жаль их! дельный народ, а насчет язычка – слабеньки!
– А вы думаете, что они сами этого не чувствуют? не чувствуют, что ли, что если Россия им хлеба не даст, так им мат? Чувствуют, да еще и ах как чувствуют!
Опять завопили все разом: "Чувствуют! да еще как чувствуют! Мат! именно мат!"
– А позвольте спросить, – вдруг надумался Сергей Федорыч, – вот вы насчет Турции изволили говорить, будто там конституции требуют; стало быть, это действительно так?
– Чего вернее, во всех газетах написано.
– Да! заварили турки кашу! придется матушке-России опять их уму-разуму учить!
– А позвольте еще спросить: дворяне у них есть… турецкие?
Вопрос этот сначала словно ошеломил собеседников, так что последовала короткая пауза, во время которой Павел Матвеич, чтоб скрыть свое смущение, поворотился боком к окну и попробовал засвистать. Но Василий Иваныч, по-видимому, довольно твердо помнил, что главная обязанность культурного человека состоит в том, чтобы выходить с честью из всякого затруднения, и потому колебался недолго.
– Как, чай, дворянам не быть, – ответил он, – только документов у них настоящих нет, а по-ихнему – все-таки дворяне.
– Помилуйте! да у меня в Соломенном и сейчас турецкий дворянин живет, и фамилия у него турецкая – Амурадов! – обрадовался Павел Матвеич, – дедушку его Потемкин простым арабчонком вывез, а впоследствии сто душ ему подарил да чин коллежского асессора выхлопотал. Внук-то, когда еще выборы были, три трехлетия исправником по выборам прослужил, а потом три трехлетия под судом состоял – лихой!
– И белый… из лица, то есть?
– Немножко как будто с точечками, а впрочем, как есть – русский: и в церковь нашу ходит, и ругается по-нашему.
– У нас дворяне – жалованные, а у них – так! – пояснил Василий Иваныч, – у наших права, а у ихних – правов нет!
– Сегодня он – дворянин, а завтра – опять холуй!
– Завтра его подрежут да евнухом в гарем определят!
– Тсс… а что, кабы у нас так?
– Вот еще что вздумали! У нас этого нельзя, у нас – закон!
– У нас чего лучше! у нас, ежели ты по закону живешь, никто тебя и пальцем не тронет! Ну, а коли-ежели не по закону – ау, брат!