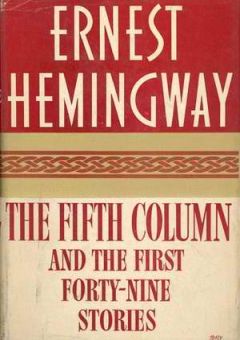Эрнест Хемингуэй - Рассказы. Прощай, оружие! Пятая колонна. Старик и море
Петра (грустно). Кто же это, сеньорита?
Дороти (радостно). Мистер Филип.
Петра. О сеньорита. Это ужасно! (Выходит в слезах.)
Дороти (кричит ей вслед). Петра! Петра!
Петра (покорно). Да, сеньорита?
Дороти (радостно). Посмотрите, мистер Филип встал?
Петра. Хорошо, сеньорита.
Петра подходит к двери Филипа и стучит.
Филип. Войдите.
Петра. Сеньорита просит узнать, — вы встали?
Филип. Нет.
Петра (у двери номера 109). Сеньор говорит, что он еще не встал.
Дороти. Пожалуйста, Петра, скажите ему, чтобы он шел завтракать.
Петра (у двери номера 110). Сеньорита просит вас прийти позавтракать, но только там почти нечего есть.
Филип. Передайте сеньорите, что я никогда не завтракаю.
Петра (у двери номера 109). Он говорит, что никогда не завтракает. Но я-то знаю, что он завтракает за троих.
Дороти. Петра, с ним так трудно. Скажите ему, пусть не упрямится и сейчас же приходит, я его жду.
Петра (у двери номера 110). Она вас ждет.
Филип. Какое слово! Какое слово! (Надевает халат и туфли.) Маловаты немного. Должно быть, это Престона. А халат симпатичный. Нужно предложить ему, может, продаст. (Складывает газеты, открывает дверь, подходит к двери номера 109, стучит и, не дождавшись ответа, входит.)
Дороти. Войдите. Ну, наконец-то!
Филип. Тебе не кажется, что мы несколько нарушаем приличия?
Дороти. Филип, ты милый и ужасно глупый. Где ты был?
Филип. В какой-то чужой комнате.
Дороти. Как ты туда попал?
Филип. Понятия не имею.
Дороти. Неужели ты совсем ничего не помнишь?
Филип. Припоминается какая-то дичь, будто я кого-то выставил за дверь.
Дороти. Престона.
Филип. Не может быть.
Дороти. Очень может быть.
Филип. Нужно его водворить обратно. Я против подобных грубостей.
Дороти. Ах, нет, Филип. Нет. Он ушел навсегда.
Филип. Страшное слово — навсегда.
Дороти (решительно). Навсегда и безвозвратно.
Филип. Еще страшнее слово. У меня от него мурмурашки.
Дороти. Это что за мурмурашки?
Филип. Все равно, что мурашки, только хуже. Понимаешь? Когда мерещится что-нибудь очень страшное. То появляется, то исчезает. Ждешь его из-за каждого угла.
Дороти. И с тобой это бывало?
Филип. Еще бы. Со мной все бывало. Самое скверное, что я помню, была шеренга морской пехоты. Вдруг все разом входили в комнату.
Дороти. Филип, сядь вот здесь.
Филип очень осторожно присаживается на кровать.
Филип, ты должен мне кое-что обещать. Мне не нравится, что ты столько пьешь, и не имеешь никакой цели в жизни, и ничего не делаешь по-настоящему. Я хочу, чтоб ты покончил с этой жизнью мадридского шалопая, — хорошо?
Филип. Мадридского шалопая?
Дороти. Да. Да. И с Чикоте. И с Майами. И с посольствами, и с Misterio, и с Верноном Роджерсом, и с этой ужасной Анитой. Хотя посольства, кажется, хуже всего. Ты больше не будешь, Филип, — хорошо?
Филип. А что ж тогда делать?
Дороти. Все, что угодно. Ты мог бы делать что-нибудь серьезное и приличное. Ты мог бы делать что-нибудь смелое, достойное и хорошее. Знаешь, чем это кончится, если ты будешь слоняться из бара в бар и водить компанию со всеми этими ужасными людьми? Тебя просто пристрелят. На днях одного пристрелили у Чикоте. Это было ужасно.
Филип. Кто-нибудь из наших знакомых?
Дороти. Нет. Просто какой-то несчастный оборванец, который ходил с пульверизатором и всем брызгал в лицо. Он никого не хотел обидеть. Но кто-то рассердился и пристрелил его. Я видела все, и это было очень неприятно. Это случилось так неожиданно, и он лежал на спине, и лицо у него было совсем серое, а еще минуту назад он был такой веселый. Потом два часа оттуда никого не выпускали, и полицейские у всех нюхали револьверы и не разрешали официантам подавать спиртное. Его ничем не прикрыли, и нам пришлось показывать свои документы человеку, который сидел за столиком как раз возле того места, где он лежал, и это было очень неприятно, Филип. Носки у него были такие грязные, и башмаки стоптаны до дыр, а рубашки совсем не было.
Филип. Бедняга. Ведь то, что там теперь пьют, это самый настоящий яд. Совершенно теряешь рассудок.
Дороти. Но, Филип, тебе-то незачем быть таким. И тебе незачем ходить туда, еще пристрелят когда-нибудь. Ты мог бы заняться политикой или какими-нибудь военными делами, — вообще чем-нибудь достойным.
Филип. Не искушай меня. Не буди мое честолюбие.
Пауза.
Не рисуй мне радужных перспектив.
Дороти. А что это еще за выходка с плевательницей у Чикоте? Ты просто нарывался на скандал. Именно нарывался, все говорят.
Филип. А с кем скандал?
Дороти. Я не знаю с кем. Не все ли равно с кем. Ты вообще не должен скандалить.
Филип. Я тоже так думаю. Вероятно, и так долго ждать не придется.
Дороти. Зачем такой пессимизм, милый, сейчас, когда мы только начинаем нашу совместную жизнь.
Филип. Нашу… что?
Дороти. Нашу совместную жизнь. Филип, неужели тебе не хотелось бы поселиться в каком-нибудь местечке вроде Сен-Тропез, — то есть вроде прежнего Сен-Тропез, — и жить там долго-долго мирной счастливой жизнью, — много гулять, и купаться, и иметь детей, и наслаждаться счастьем, и все такое? Я серьезно говорю. Неужели тебе не хочется, чтобы все это кончилось? Война; и революция, и все прочее?
Филип. А будет у нас «Континентал дейли мейл» к завтраку? И бриоши, и свежее клубничное варенье?
Дороти. Милый, у нас будет даже яичница с ветчиной, а ты, если хочешь, можешь выписать «Морнинг пост». И все будут говорить нам Messieur-Dame.
Филип. «Морнинг пост» только что перестала выходить.
Дороти. Ах, Филип, как с тобой трудно. Мне хотелось, чтоб у нас была такая счастливая жизнь. Разве ты не хочешь иметь детей? Они будут играть в Люксембургском саду, и гонять обруч и пускать кораблики.
Филип. И ты будешь им показывать карту. Или нет: лучше даже глобус. «Видите, детки»; мальчика мы назовем Дерек, это самое безобразное имя, какое я только знаю. Ты скажешь: «Видишь, Дерек? Вот это Вампу. Следи за моим пальцем, и я покажу тебе, где теперь папочка». А Дерек скажет: «Да, мамочка. А я когда-нибудь видел папочку?»
Дороти. Нет, нет. Вовсе так не будет. Просто мы будем жить в каком-нибудь красивом уголке, и ты будешь писать.
Филип. Что?
Дороти. Что угодно. Романы и статьи, а может быть, книгу об этой войне.
Филип. Приятная будет книга. Особенно если издать ее с иллюстрациями.
Дороти. Или ты бы мог подучиться и написать книгу о политике. Я слышала, что книги о политике всегда нарасхват.
Филип (звонит). Не сомневаюсь.
Дороти. Или ты бы мог подучиться и написать книгу о диалектике. Всякая новая книга о диалектике отлично расходится.
Филип. Неужели?
Дороти. Но, Филип, милый, ты должен прежде всего еще здесь найти какое-нибудь приличное занятие и бросить это невозможное, бессмысленное времяпрепровождение.
Филип. Я где-то читал, но до сих пор не имел случая проверить: скажи, правда ли, что, когда американке понравится мужчина, она прежде всего заставляет его от чего-нибудь отказаться? От привычки пить виски, или курить виргинский табак, или носить гетры, или охотиться, или еще что-нибудь.
Дороти. Нет, Филип. Дело просто в том, что ты — очень серьезная проблема для любой женщины.
Филип. Надеюсь.
Дороти. И я вовсе не хочу, чтобы ты от чего-нибудь отказывался. Напротив, я хочу, чтоб ты за что-нибудь взялся.
Филип. Хорошо. (Целует ее.) Я так и сделаю. Ну, а теперь завтракай. Я пойду к себе, мне нужно позвонить по телефону.
Дороти. Филип, не уходи…
Филип. Я сейчас же вернусь, милая. И буду страшно серьезным.
Дороти. Ты знаешь, что ты сказал?
Филип. Конечно.
Дороти (очень радостно). Ты сказал — милая.
Филип. Я знал, что это заразительно, но не думал, что до такой степени. Прости, дорогая.