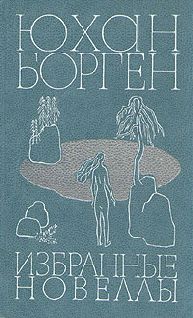Юхан Борген - Темные источники
– Только не в моих глазах, – быстро возразила она. – Да, да, я знаю, вы говорите, что мне рассуждать легко: я обеспечена – но разве это такой большой грех? Да, к счастью, я обеспечена и рада, что могу не слышать об этих отвратительных людях, которые высунув язык мечутся между биржей и еще бог весть чем, чтобы в свободное время еще пуще щеголять своими дурными манерами... – Она поднялась в необычной для нее запальчивости и стояла, глядя на темный залив. Послышался шум поезда, который прошел под окнами, разбрасывая искры в темноте. Когда шум затих, она продолжала: – Ты думаешь, я не вижу их здесь в заливе, когда они катаются на своих роскошных яхтах? Они непристойны, они сами и их девицы... Кстати, о девицах, в «Космораме» идет чудесный фильм с Хенни Портен «Женщина, на которой не женятся».
Он почувствовал, что она глядит на него. Стало быть, она к чему-то клонит. В таком случае намек на фильм был слишком уж прозрачен. Его охватила тревога, к тому же он подумал, что пора уходить. Ночь еще только начиналась. Он торопливо допил виски дяди Мартина.
– Как видно, они считают, что настало их время! – сказал он с напускной беспечностью.
– Как видно... – Она отошла от окна. – Тебе, наверное, пора, – сказала она мягко, но с призвуком горечи. – Я хочу, чтобы ты знал одно – по-моему, тебе вовсе не надо торопиться и пускаться в так называемые практические дела – вообще в какие-нибудь дела ради этой цели.
Он подумал: «Неужели матери так ревнивы по самой своей природе? Неужели она не может примириться с тем, что у меня есть эта девушка, хотя знает, что у меня были до нее многие другие, неужели не может примириться только потому, что слышала о ней и что она привлекает к себе внимание?» Он решил ее удивить. Он снова сел и весело сказал:
– Ты меня гонишь, мама? Да нет же, не бойся, я больше не прикоснусь к драгоценному дядиному снадобью.
Она подошла к нему ближе, успокоенная, она снова была в его власти, как в былые дни, как всегда. Она сама взяла бутылку и налила ему. Взяла рюмку и налила несколько капель себе тоже.
– И что вам только нравится в этом виски? – спросила она, поперхнувшись, и со смехом закашлялась.
Победа над ней давалась слишком легко. Он был тронут. Так, видно, бывает всегда, когда в нем бьют светлые источники и он хочет радовать, только радовать – ее, всех других, самого себя. Он сел, повернувшись к ней лицом, и взял ее за обе руки.
– В моей комнате все осталось, как прежде? – Он тут же пожалел о своих словах, он опять переиграл, он знал, что она будет счастлива, если он вернется домой. Но он не хотел, чтобы это было воспринято как намек.
– Как прежде, – радостно отозвалась она. Но она не воспользовалась его слабостью. Не стала разыгрывать грусть, чтобы одержать победу. Он почувствовал прилив нежности к ней.
– В один прекрасный день я пожелаю в этом удостовериться! – улыбаясь, заметил он. Это было уже почти обещанием. Он не собирался ничего обещать, такого намерения у него не было. Но ему хотелось ее порадовать. – Я тоже не поклонник нуворишей, – объявил он.
3
Просторная мастерская на улице Недре-Слоттсгате встретила его теплом и уютом. Поднимаясь по крутой лестнице на пятый этаж, он чувствовал, как им овладевает приятный хмель. Пространства было как бы заряжено нервным напряжением, как и он сам после целого дня притворства.
Уютом пахнуло на него из полумрака под стеклянным потолком; это была его первая попытка зажить собственным домом – так решили по обоюдному согласию, когда он съехал от матери с Драмменсвей, и это тоже была игра. Добротная старая мебель, которую ему подарил дядя Рене («Запомни, мой мальчик, все радости жизни начинаются с какой-нибудь простой, но по-настоящему хорошей вещи – пусть это всего лишь шкаф, в который нечего положить!»), была разрозненная и потому особенно ему нравилась, она так не походила на обстановку, в которой он вырос. Он подошел прямо к шкафу и налил себе полный стакан бургундского, чтобы поразмыслить обо всех своих добрых поступках. Подаренный им Вилфреду небольшой изысканный набор вин дядя Рене назвал «приданым».
Но безмятежное настроение, какое дает чистая совесть, не приходило. Возвращаясь в мастерскую по освещенной фонарями дороге, Вилфред балансировал между покаянными мыслями и попыткой убедить себя, что все его поступки, совершенные за день, – из добрых побуждений. Кристина – ее он порадовал своим откровенным восхищением; матери доставил удовольствие, заглянув к ней еще раз вечером после их совместного выхода в свет, – то, что она так любила. Он щедро оделил своим драгоценным «я» тех, к кому был привязан. Потому что сейчас в его жизни настал период добрых дел – время, когда в нем бьют светлые источники. Он знал, что этим надо пользоваться.
Он налил себе еще стакан, понимая, что завтра будет расплачиваться похмельем. Ему вдруг не захотелось оставаться в одиночестве, он позвонил в два ресторана, пытаясь найти Селину, и просил, чтобы ей передали, что он звонил. От просторной комнаты веяло не только уютом. Вилфред остановился посредине мастерской и вдруг почувствовал угрызения, всегда подспудно сопровождавшие все его мысли и поступки. Как бы он ни старался подлаживаться под требования и ожидания окружающих, на душе неизменно оставался этот мутный осадок: ведь, по сути, расточая радости, он причинял им боль. Вся его наигранная откровенность с матерью и ее великодушная маска доверия в последние проведенные ими вместе вечерние часы – разве могли они скрыть ее беглый беспомощный взгляд, который говорил о том, что она одинока; Вилфред всегда с нервной чуткостью подмечал у нее этот взгляд в минуту расставания. Тут не было расчета с ее стороны, не было попытки заставить его разглядеть лицо мученицы под наигранной бодрой улыбкой. Кабы это было так!.. Нет, она угадывала простую истину о неизбежности расставания, ему-то эта истина была ясна как дважды два. Но ведь она изолировала себя от жизни и пользовалась выгодами своего положения. Зачем же ей угадывать правду? Слишком жаден человек, не может уяснить другую простую истину: нельзя гнаться за двумя зайцами, к примеру, не знать и в то же время пытаться все-таки капельку знать. В этом, наверное, вся суть дела.
Он подошел к телефону и позвонил в третий ресторан. Селины не оказалось и там. А впрочем, какое ему дело, что все вокруг него смешалось и пошло кувырком? Он ведет другую игру – не ту, что ведет она, не ту, что ведет его семья, впрочем, даже и не свою собственную, – но главное – это все-таки игра, и она его пока что забавляет. Андреас и его тщеславный папаша, сын садовника Том, ставший маленькой шишкой в некой новомодной отрасли промышленности, и сам садовник, который предпочитает вести контрабанду спиртным, а не ухаживать за своими теплицами, – чушь какая-то, почему все это для него так живо, что не может он просто от них отмахнуться? Вилфред смотрел на телефон, тихо посмеиваясь. Плевать на них на всех, как говорит дядя Мартин. Вот только дядя Мартин и в самом деде плюет на всех и вся, причем делает это с легким сердцем, да вдобавок еще изображает человека сострадательного. У него, Вилфреда, как раз наоборот – ему нипочем не удается избавиться от безразличных ему людей, они все кружат вокруг него, будто в точности знают, как залучить его в сети,– для этого им стоит лишь сделать вид, будто они не имеют к нему отношения. А может, это самая обыкновенная самовлюбленность – считать, что ты в ответе за чужие судьбы?..
Он еще плеснул себе в стакан из «приданого». Потом вернулся к телефону и энергично покрутил аппарат. Селина оказалась в четвертом ресторане, он потребовал, чтобы она вернулась домой. Селина всегда находилась где-нибудь по прихоти чужой воли. Но какое ему, собственно, дело до нее? Да никакого, почти никакого. Он сел и смущенно покосился в дальний угол на мольберт – самое темное пятно на его совести...
Они с Робертом подцепили Селину на благотворительном празднестве в пользу семей моряков, погибших от немецких торпед. Вилфред участвовал в этих празднествах как посредник матери – каждый раз, когда, испытывая потребность избавиться от угрызений совести, связанных с войной, она поддерживала эти светские затеи, которые начинались невинной лотереей и кончались пьянкой. Бывалые кутилы охотно посещали такие места и, выиграв корзину для яиц или какую-нибудь вышитую безделушку, притаскивали их в ресторан и показывали друзьям под общий хохот и шуточки. Они тотчас прозвали девушку Селиной в честь репродукции, которая висела у Роберта. И впрямь, когда она сидела за покрытым льняной скатертью столом, на котором красовался крендель, глядя вокруг испуганными глазами лани, – ее выбрали в «жертвы войны» потому, что у нее погиб на море двоюродный брат, – она и впрямь походила на одну из натурщиц Мане. Они заговорили с ней – их позабавило ее полное равнодушие к происходящему. Она не понимала, к чему вся эта благотворительная кутерьма, а к войне относилась как к одной из неизбежных превратностей судьбы, ибо судьба не дала ей изведать более отрадные впечатления.