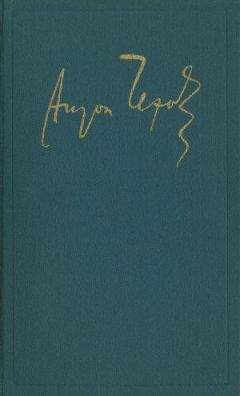Антон Чехов - Рассказы. Повести. 1898-1903
– Пожалуйте, господа, в дом, – сказал он, улыбаясь. – Я сейчас, сию минуту.
Дом был большой, двухэтажный. Алехин жил внизу, в двух комнатах со сводами и с маленькими окнами, где когда-то жили приказчики; тут была обстановка простая, и пахло ржаным хлебом, дешевою водкой и сбруей. Наверху же, в парадных комнатах, он бывал редко, только когда приезжали гости. Ивана Иваныча и Буркина встретила в доме горничная, молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга.
– Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа, – говорил Алехин, входя за ними в переднюю. – Вот не ожидал! Пелагея, – обратился он к горничной, – дайте гостям переодеться во что-нибудь. Да кстати и я переоденусь. Только надо сначала пойти помыться, а то я, кажется, с весны не мылся. Не хотите ли, господа, пойти в купальню, а тут пока приготовят.
Красивая Пелагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простыни и мыло, и Алехин с гостями пошел в купальню.
– Да, давно я уже не мылся, – говорил он, раздеваясь. – Купальня у меня, как видите, хорошая, отец еще строил, но мыться как-то всё некогда.
Он сел на ступеньке и намылил свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой.
– Да, признаюсь… – проговорил Иван Иваныч значительно, глядя на его голову.
– Давно я уже не мылся… – повторил Алехин конфузливо и еще раз намылился, и вода около него стала темно-синей, как чернила.
Иван Иваныч вышел наружу, бросился в воду с шумом и поплыл под дождем, широко взмахивая руками, и от него шли волны, и на волнах качались белые лилии; он доплыл до самой середины плеса и нырнул, и через минуту показался на другом месте и поплыл дальше, и всё нырял, стараясь достать дна. «Ах, боже мой… – повторял он, наслаждаясь. – Ах, боже мой…» Доплыл до мельницы, о чем-то поговорил там с мужиками и повернул назад, и на середине плеса лег, подставляя свое лицо под дождь. Буркин и Алехин уже оделись и собрались уходить, а он всё плавал и нырял.
– Ах, боже мой… – говорил он. – Ах, господи помилуй.
– Будет вам! – крикнул ему Буркин.
Вернулись в дом. И только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу, и Буркин и Иван Иваныч, одетые в шелковые халаты и теплые туфли, сидели в креслах, а сам Алехин, умытый, причесанный, в новом сюртуке, ходил по гостиной, видимо, с наслаждением ощущая тепло, чистоту, сухое платье, легкую обувь, и когда красивая Пелагея, бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала на подносе чай с вареньем, только тогда Иван Иваныч приступил к рассказу, и казалось, что его слушали не один только Буркин и Алехин, но также старые и молодые дамы и военные, спокойно и строго глядевшие из золотых рам.
– Нас два брата, – начал он, – я, Иван Иваныч, и другой – Николай Иваныч, года на два помоложе. Я пошел по ученой части, стал ветеринаром, а Николай уже с девятнадцати лет сидел в казенной палате. Наш отец Чимша-Гималайский был из кантонистов,[14] но, выслужив офицерский чин, оставил нам потомственное дворянство и именьишко. После его смерти именьишко у нас оттягали за долги, но, как бы ни было, детство мы провели в деревне на воле. Мы, всё равно как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, стерегли лошадей, драли лыко, ловили рыбу, и прочее тому подобное… А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные, прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до самой смерти будет потягивать на волю. Мой брат тосковал в казенной палате. Годы проходили, а он всё сидел на одном месте, писал всё те же бумаги и думал всё об одном и том же, как бы в деревню. И эта тоска у него мало-помалу вылилась в определенное желание, в мечту купить себе маленькую усадебку где-нибудь на берегу реки или озера.
Он был добрый, кроткий человек, я любил его, но этому желанию запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе – это не жизнь, это эгоизм, лень, это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа.
Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи, от которых идет такой вкусный запах по всему двору, есть на зеленой травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. Сельскохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость, любимую духовную пищу; он любил читать и газеты, но читал в них одни только объявления о том, что продаются столько-то десятин пашни и луга с усадьбой, рекой, садом, мельницей, с проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворечни, караси в прудах и, знаете, всякая эта штука. Эти воображаемые картины были различны, смотря по объявлениям, которые попадались ему, но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла он не мог себе представить без того, чтобы там не было крыжовника.
– Деревенская жизнь имеет свои удобства, – говорил он, бывало. – Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо и… и крыжовник растет.
Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходило одно и то же: a) барский дом, b) людская, c) огород, d) крыжовник. Жил он скупо: недоедал, недопивал, одевался бог знает как, словно нищий, и всё копил и клал в банк. Страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него, и я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он и это прятал. Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь.
Годы шли, перевели его в другую губернию, минуло ему уже сорок лет, а он всё читал объявления в газетах и копил. Потом, слышу, женился. Всё с той же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женился на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что у нее водились деньжонки. Он и с ней тоже жил скупо, держал ее впроголодь, а деньги ее положил в банк на свое имя. Раньше она была за почтмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь; стала чахнуть от такой жизни да года через три взяла и отдала богу душу. И конечно брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти. Деньги, как водка, делают человека чудаком. У нас в городе умирал купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку меду и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, чтобы никому не досталось. Как-то на вокзале я осматривал гурты, и в это время один барышник попал под локомотив и ему отрезало ногу. Несем мы его в приемный покой, кровь льет – страшное дело, а он всё просит, чтобы ногу его отыскали, и всё беспокоится; в сапоге на отрезанной ноге двадцать рублей, как бы не пропали.
– Это вы уж из другой оперы, – сказал Буркин.
– После смерти жены, – продолжал Иван Иваныч, подумав полминуты, – брат мой стал высматривать себе имение. Конечно, хоть пять лет высматривай, но всё же в конце концов ошибешься и купишь совсем не то, о чем мечтал. Брат Николай через комиссионера, с переводом долга, купил сто двенадцать десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовника, ни прудов с уточками; была река, но вода в ней цветом как кофе, потому что по одну сторону имения кирпичный завод, а по другую – костопальный. Но мой Николай Иваныч мало печалился; он выписал себе двадцать кустов крыжовника, посадил и зажил помещиком.
В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, посмотрю, как и что там. В письмах своих брат называл свое имение так: Чумбароклова Пустошь, Гималайское тож. Приехал я в «Гималайское тож» после полудня. Было жарко. Везде канавы, заборы, изгороди, понасажены рядами елки, – и не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом; постарел, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед, – того и гляди, хрюкнет в одеяло.
Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мысли, что когда-то были молоды, а теперь оба седы и умирать пора. Он оделся и повел меня показывать свое имение.
– Ну, как ты тут поживаешь? – спросил я.
– Да ничего, слава богу, живу хорошо.