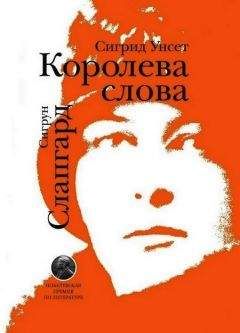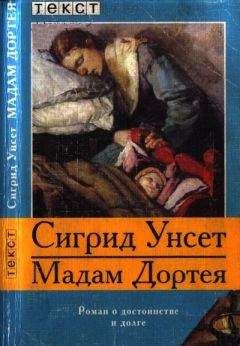Сигрид Унсет - Фру Марта Оули
Долго-долго сидели мы в сумраке гостиной и беседовали, стараясь ободрить друг друга. Уставшая, замерзшая, с мокрым от слез лицом, сидела я рядом со своим мужем, пытаясь успокоить его, в то время как мысли о произошедшем со мной за последний месяц наполняли меня несказанным ужасом. Только бы не думать об этом! Я шептала Отто нежные слова, гладила его заплаканное лицо, пытаясь тем самым и убежать от самой себя, и помочь ему, поддержать его своими слабыми руками, спасти от надвигающегося на него страха.
Он умолял меня пойти спать: «Ты здесь можешь простудиться, милая моя».
Он обнял меня и повел в спальню, а по дороге остановился у двери в детскую, где стояли освещенные ночным светом три кроватки, он невольно простер к ним руки: «Вот о ком я так же, как и о тебе, моя Марта, неустанно думаю… Боже мой, что ждет вас!»
Я обняла и поцеловала его: «Милый мой, воспаление легких совсем не опасная болезнь, доктора говорят, что редкий человек не болеет ею».
«Так-то оно так, Марта, но ведь моя мать умерла от этого… Да и обе мои сестры, и Лидия, и Магда. Я просто никогда не задумывался над этим. Здоровье у меня всегда было отменное, я был уверен, что со спокойной совестью могу жениться на тебе… Уж с моим-то здоровьем…»
Я пошла в спальню, легла в постель, но потом вновь встала посмотреть, заснул ли Отто. Подошла и укутала его одеялом, как дитя. Заснуть я смогла только на рассвете.
Проснулась я почти в одиннадцать часов, спросила у горничной об Отто, она ответила, что хозяин, как обычно, ушел в контору. Боже милостивый, не дай никому такого утра.
Я тут же написала Хенрику несколько слов о том, что все между нами должно быть кончено, что я в отчаянии и стыжусь самой себя. И ни слова больше. Я не написала, что ненавижу его, что желаю ему смерти всей душой. Если бы он умер, я, возможно, смогла бы все забыть. Время тянулось медленно, я с нетерпением ждала возвращения Отто из конторы и одновременно страшилась этого – ведь рано или поздно он мог узнать о наших с Хенриком отношениях. Я пыталась представить себе, каким именно образом это может случиться. Стоило мне подумать о нем, как во мне просыпалась прежняя любовь и нежность, нежность чисто физическая, но отнюдь не чувственная. Я ощущала желание прикоснуться к нему, погладить его лоб, глаза, рот, руки, прижаться к нему с каким-то материнским чувством, в котором затаились страх и смущение.
В последнее время я жила так, будто шла по канату над пропастью: когда надо идти вперед и ни в коем случае не оглядываться по сторонам, иначе закружится голова, сорвешься и полетишь вниз.
Я жила одним днем. Каждое утро я изо всех сил старалась целиком и полностью сосредоточиться на своих привычных заботах и обязанностях, крепилась, чтобы выглядеть спокойной перед детьми и Отто.
Я обнаружила, что беременна, но, как ни странно, это не повергло меня в отчаяние, казалось, меня просто еще крепче привязали к скамье, на которой пытали.
Больше всего меня угнетала жалость, которую заранее испытывал Отто к будущему ребенку. Я замечала, как он страдает, хотя после той ночи он постоянно следил за собой, сохранял присутствие духа и ни на что не жаловался. Ему даже как будто стало лучше, ведь он так берегся, и мы изо всех сил заботились о нем, и все же кашель не проходил, хотя крови не было.
Мы сняли дачу в Веттеколлене, и Отто проводил много времени с нами, бывая в конторе лишь по утрам.
Хенрика, по счастью, все это время я почти не видела. Удивительно, что мне удавалось быть вполне непринужденной при встрече с ним. Я даже сама от себя такого не ожидала.
20 августа 1902 г.
Сегодня утром ко мне зашла Миа Бьерке. Мы говорили о том, что я хочу снова возобновить преподавание в школе.
«И зачем только тебе это нужно, Марта? Разве есть какая-то в этом нужда, ведь и Отто теперь уже почти здоров».
Признаться, многим кажется мое намерение нелепым. И Отто относится к нему с неодобрением.
Большинство видели в этом мое всегдашнее желание выделиться. Им всегда так кажется.
Конечно же, эти люди замечали, что в их кругу я чувствую себя чужой. Тем не менее они во всем старались проявить доброжелательность. Естественно, прежде всего ради Отто, но еще и потому, что они сами по себе славные люди.
В воскресенье я была приглашена на дачу к Йенсенам. Сидя у них, я размышляла о том, как, в сущности, мне приятно бывать у них, несмотря на всю мещанскую обстановку: всякие там вазочки, пальмы, колонны; ведь не это главное в доме, главное – атмосфера, они сами.
Если бы я и в самом деле была такой одаренной натурой, какой воображала себя, я давно бы уже поняла, что в жизни только люди имеют значение и судьба каждого из нас – результат сцепления, взаимодействия окружающих нас людей. И тогда, попав в круг друзей Отто, этих здоровых, хороших, трудолюбивых людей, я бы сразу постаралась поладить с ними, отнюдь не поступаясь своей индивидуальностью, а это ведь так просто, надо лишь обратить к людям те свои качества, которые необходимы для обыденной жизни, и постараться развить их в себе.
Но я все время только и жила в воображаемом мире, как будто обдумывала реальность, а на самом деле не соприкасалась с ней. Я никогда, собственно, не пыталась проникнуть во внутренний мир этих людей, судила поверхностно, по их образу жизни, вкусам, взглядам – всему тому, что было как бы навязано им извне. Взять, к примеру, Миа. Ее приводит в восторг все, что выставлено в витринах модных магазинов. Мне это всегда претило, и я считала, что у нас с ней нет ничего общего, а ведь общее-то у нас есть: ведь мы обе замужем и растим детей.
Мне стало так стыдно перед ней сегодня. Ведь я уже два месяца собиралась зайти к ней, да так и не зашла. А она нашла время навестить меня да еще принести земляники и малины для варенья, а кроме того розы для Отто.
Бедная Миа! Ведь у нее тоже не такая уж сладкая жизнь: вечная возня с кучей орущих малышей. Уж я бы на ее месте вряд ли стала бегать по прихворнувшим знакомым, одаривая их розами и земляникой. А вот Миа способна на такое. Когда мы возвращались с ней вместе от Отто из его санатория, она сказала мне смущенно: «Что ж, кому-то выпадает и трудная доля на этом свете».
О жизнь, жизнь моя, жизнь моя! Жизнь!
О эти бесплодно прошедшие годы, они обступили меня и укоризненно взирали со всех сторон. Я чувствую себя столь одинокой среди всех других людей, потому что не пыталась понять их, обращала внимание только на случайные внешние проявления их сущности.
Что ж, пусть мне дано знать то, что недоступно им только потому, что университетские профессора и авторы прочитанных мною книг заполнили мои мозги вещами, которые им чужды. Какое все это имеет отношение к живой человеческой жизни! Пусть у кого-то черные волосы, а у кого-то русые, кто-то строен, а кто-то сутул, но телесная жизнь одинакова: у всех в жилах струится кровь и все нуждаются в еде и питье. И души наши также томятся голодом и жаждой, хотя им требуется разная духовная пища, и кто знает, быть может, душа – это только пламя, которое горит в наших телах, пламя наших мыслей и желаний.
Боже мой, в каком заблуждении я пребывала.
Отныне все будет по-другому. Я не познала сущности жизни, но знаю теперь, что одиночество – это не жизнь. Нельзя отгораживаться от других.
Мы рождаемся благодаря другим людям, и все наше существование может поддерживаться только благодаря другим людям, и смысл жизни можно приобрести, только отдавая другим частичку своего "я".
Порой, сидя на скамье в парке рядом с Отто, я испытываю сильнейшее желание упасть к его ногам, положить голову ему на колени и сказать сама не знаю что, но, право, лучше, быть может, ничего не говорить.
Нет, я никогда не смогу признаться ему во всем. Собственно, ведь потому-то я и веду дневник. Я так хочу стряхнуть с себя прошлое, иначе оно будет постоянно мешать мне в моей новой жизни.
Я слишком дорого заплатила за свой опыт, плата, по-моему, по всем человеческим меркам чрезмерная. Но что сожалеть об этом!
Послезавтра возвращаются домой мои мальчики, а на следующий за этим день я снова приступлю к занятиям в школе. Единственное, чего я хочу, – это только трудиться на благо моей семьи, не больше, но и не меньше. А скоро вернется домой и Отто. Мой единственный, бесценный друг!
Всякий раз, когда я вижу Хенрика или когда Отто ласкает маленькую Осе, я ощущаю душевную боль. Быть может, со временем я свыкнусь с ней. Ведь кому-то это удавалось. В моих силах наладить счастливую жизнь для моих дорогих и близких – я надеюсь на хорошее. Очень надеюсь.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Сижу и листаю страницы дневника. Прошло всего лишь четыре месяца, а кажется, что четыре года. Тогда я была уверена, что все будет хорошо.
А эта осень пролетела так стремительно, как никакая другая пора моей жизни, незаметно прошла одна неделя за другой. Мне думалось, что учебный год только начался, а тут слышу, Халфред говорит мне: «Мама, до сочельника осталось всего три недели».